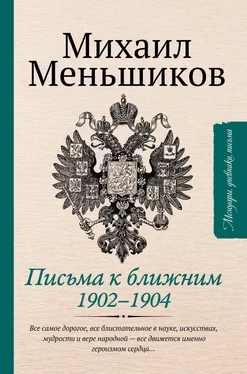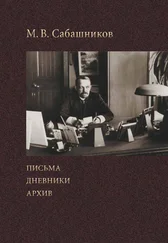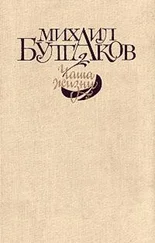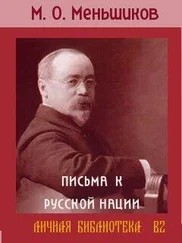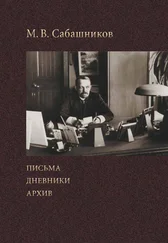Мы до сих пор по добродушию своему убеждены, что крепостное право есть наследие времен далеких, наследие татарщины и московского варварства. Но это наивная ошибка, ее давно пора оставить. При татарах Россия пользовалась теми же льготами, какими Канада или Австралия пользуются теперь от Англии. Хан, конечно, считался, как король Эдуард, верховной властью, он посылал ярлыки и басму (отпечаток своей ступни, символ попирающей власти), но за известную, очень умеренную дань русским дана была полная свобода самоуправления, свобода веры, свобода сходок, свобода письменности, свобода труда и образования, свобода всех выражений народной жизни, словом – все права, входящие в круг теперешней гражданственности европейской. Татары не только чувствовали, что трудно было бы им уследить за всеми этими вольностями, но просто не хотели подавлять их. Им, как народу свежему и честному, это было непонятно и противно. Наша московская культура сделала шаг назад в этом направлении, но вследствие влияний не внутренних, а внешних. Вопреки ходячему мнению, старая Москва была уже в значительной степени денационализирована. Греки, итальянцы, поляки, шведы, немцы, татары уже незаметно подтачивали корни самобытности нашей; византизм и Польша привили презрение к своей народности до такой степени, что, например, Иван Грозный не хотел считать себя русским и выводил себя, подобно многим дворянам, от немцев. Но все же и в московскую эпоху, пока держалась старая знать, стояли непоколебимо начала народного самоуправления, земской свободы, соборного через лучших людей представительства и народности во всем. Старомосковская эпоха еще не знает крепостного права; оно возникает одновременно с знакомством с Европой, где феодальные отношения тогда свирепствовали. Петр I явился только вершиною волны, разбившей народную культуру. Уже царствование Алексея было нашествием иноземцев, мирным нашествием, начавшимся еще за двести лет перед этим. С тех пор как Петр I был полонен Европой, с ужасающей быстротой развиваются все виды народного утеснения: крепостное право, бироновщина, аракчеевщина и многое другое, о чем говорить не будем. С тех пор мы, стоя на коленях перед Европой, думаем, что оттуда свет, оттуда свобода, оттуда гуманность, но на самом деле именно оттуда мы получили самые жестокие обычаи и политические суеверия. Оттуда шпицрутены, плети, пытки, оттуда заколачивание солдат аракчеевской эпохи, оттуда бурмистры с их бесчеловечием в отношении крестьян, оттуда многое другое…
– Но европейские же влияния содействовали и отмене всех этих ужасов, – скажете вы. – Европейскому гуманизму мы обязаны восстановлением некоторой гражданственности, обеспечением личной свободы, законодательством Александра II, судом милостивым и правым.
– Да, да. Европе мы обязаны и этим, спасибо ей. Но Европе же мы обязаны и тем, что те же гуманные начала некогда исчезли у нас и теперь так плохо укореняются на нашей почве. Если мы подвинулись – это заслуга Запада, но если и отстали в последнее столетие так постыдно – вина того же Запада. Не считайте это парадоксом. Раз Европа отняла у народа нашего его аристократию, раз у нас нет своей интеллигенции, а есть европейская, то ясно, что у нас нет отдельной от Европы умственной жизни и быть ее не может.
Припомните все наши общественные движения, – они уже сто лет автоматически повторяют колебания западной жизни. Есть какая-то странная связь, совершенно неуследимая, в умственном настроении народов, культурно связанных, – точно магнитные токи, отекающие земной шар, служат общею подпочвой духа. Называйте это подражанием, «модой», – сущность явления не станет более ясной. Бурный конец XVIII века в Европе вызвал у нас брожение эпохи Радищева, разрешившееся 14-го декабря. Полоса мистицизма, сентиментальности, байронизма, романтизма, гегельянства – скажите, какое из этих умственных поветрий нас не захватывало всецело? Некоторые настроения мы усваивали даже поспешнее, чем на Западе, и переживали их искреннее и глубже, чем там. Как гегельянство и фейербаховское безбожие, так дарвинизм, нигилизм, золаический натурализм, марксизм, ницшеанство, декадентство, – мы все это перенимали с поразительной быстротою. Иногда казалось, что, подобно рефрактору, мы отражаем даже более яркие лучи, чем принимаем сами, казалось, что мы даем известным идеям Запада питание более обильное, чем они имеют на родине. В то время как свои великие начинатели имели у нас небольшой успех, чужие встречались всегда с объятиями. Это истина, всем известная. Но если так, если наше общество – только медиум западного, – кто же виноват в том, что мы не сумели отстоять народ от бедствий, не сумели спасти хотя бы вот эти миллионы младенчиков за десятилетие? Если мы, образованные люди, недостаточно серьезны, если мы недостаточно заботливы, гуманны, то виновато слабое в этом смысле внушение, посылаемое нам с Запада. Когда в Европе возникал пламенный подъем духа, и у нас замечалось пылкое стремление к идеалам. Во всех классах общества являлись борцы за человеческое достоинство, за нравственные начала, за высшую красоту духа. Но стоило Европе заколебаться в своем гуманизме – заколебались и мы. Какими неожиданностями дарила нас Европа, этот авангард человеческого рода! В то время как у нас освобождали народ, Европа – в лице Дарвина – выдвинула будто бы вечный закон «борьбы за существование». Этот закон был прямо ушатом холодной воды на русский идеализм. В то время как мы восторженно приветствовали национальную идею, освобождение народностей, когда мы рукоплескали Мадзини и Гарибальди, – опять же Европа, в лице Бисмарка, выдвинула будто бы вечный закон крови и железа, закон, оправдывающий порабощение народов. Опять ушат воды, и какой жестокий! Немцы захватили Эльзас-Лотарингию, наступили пятой на Познань и Шлезвиг, – какая это была поддержка для грубого эгоизма, например для Турции, где столько Эльзасов и Лотарингий томится в плену! Не кто иной, как Запад, и в лице самых либеральных стран – Франции, Италии, Соединенных Штатов, Англии, развернул перед нами Панаму, Дрейфусиаду, Таманиголл, Трансваальскую войну, ряд омерзительных явлений, которые страшно опорочили конституционный принцип. Придавленный, сконфуженный, – казалось, издыхающий эгоизм во всех странах снова поднял голову, и все победы гуманизма были отомщены без боя. Удивляются упадку русской либеральной партии (г. Боборыкин посвятил этому явлению целый роман), – но забывают, что биржа наших идей, как и денежная, в полной зависимости от европейской и что сама Европа подает сигналы к крушению либерализма. Если в Англии после Гладстона возможен Чемберлен или во Франции после Гамбетты – герои Панамы, если в Италии после Гарибальди утверждается Криспи, если хозяином философской, свободомыслящей Германии является Бисмарк, – скажите, что удивительного в нашей так называемой «реакции»? Общественные настроения, подобно погоде, создаются не у нас дома. Тут есть своя какая-то общая атмосфера, дарящая нас сюрпризами, тут область, где вместе с вдохновением и ясностью рассудка действуют представления навязанные, наносные, стихийные. Подобно Гольфстрему, посылающему нам тепло и грозы, Европа посылает нам светлые внушения, но она же повергает нас и в самые тягостные помешательства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу