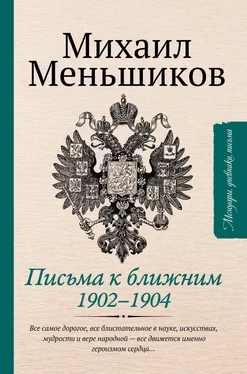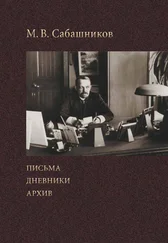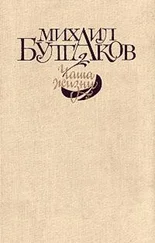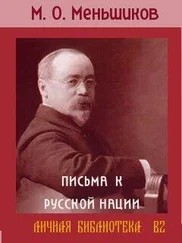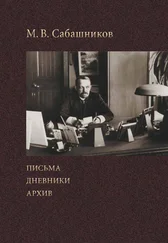Европа скажет: – Помилуйте! Разве мы насильно берем у вас хлеб ваш? Разве мы не платим вам чистым золотом и разве вы не стараетесь всеми мерами вывезти как можно больше?
Мы – Европа – с русской деревней не имеем решительно никаких дел. Мы торгуем с русскими негоциантами. Откуда и как они добывают эти горы хлеба и всякой живности – не наше дело. Сколько известно, и русские скупщики не отнимают у крестьян ничего насильно. Крестьянам нужны деньги, скупщикам – товар; является торговля, как и во всем свете, основанная на обмене менее нужного на более нужное.
Все это так. Но именно в момент обмена совершается то, что одна сторона насасывается, как пиявка, другая истекает кровью. Механизм этого обмена очень сложный, в него входит вся история народа и психология, величины едва уследимые. Обмен начинается не сейчас, он начинается издалека. Европа угрозой насилия заставляет так называемые «отсталые» народы перенимать несвойственную им, непосильную культуру, перестраиваться на манер вооруженного лагеря, принимать слишком тяжелую государственную организацию, заводить особые дорого стоящие сословия и содержать их по-европейски. Чтобы содержать современное сложное правительство, армию, флот, народу недостаточно иметь хлеб, молоко, мясо, – ему нужны деньги, и тем более денег, чем быт правящих классов дальше от национального. Или ждите военного разгрома, – говорит Европа, – ждите судьбы цветнокожих, или вооружайтесь, заводите себе европейски обученных администраторов, военных, ученых, техников, огромный, многомиллионный класс, который имеет дорогие и сложные потребности. И если сами не можете дать вашему высшему классу культурную обстановку, то мы можем взять это на себя. Но за то мы переложим на вас весь черный труд, обречем вас на экономическое рабство…
Задолго до завоевания мечом Европа соблазняет высшие классы варварских стран своею роскошью и этим заставляет усиливать внутренний гнет. Казалось бы, чем более сближаются варвары с Европой, тем легче должна слагаться их жизнь. На самом деле наоборот. До Петра простой народ жил свободнее и богаче, чем после Петра. Хотя помещики владели землею, которую обрабатывал народ, но если хоть по мере зерна приносил каждый крестьянин, то помещику уже и того было довольно. Есть предел вместимости, предел потребления, за которым все естественные продукты представляют товар, подобно воздуху и воде, при всей необходимости никому ненужный. Пока наши захолустные помещики плохо знали, что есть Европа, что существуют тысячи блестящих любопытных вещей, которые можно обменять на хлеб, сало, кожи, они сидели по усадьбам, обложенные многолетними скирдами хлеба и кладовыми, и не было прямо-таки предлога для слишком жестокого угнетения народа. Что можно было взять от пахаря, кроме деревенских припасов? Но их и так было много. Чем был старый помещик для мужика, – тем было и патриархальное правительство для всей страны. Внутренний гнет развивался по мере того, как мы знакомились с Европой, когда получили возможность менять хлеб на бусы. Тогда – и только тогда – повинности мужика стали казаться малыми, зазвучало в воздухе: «давай, давай, давай», потребовалось крутое прикрепление к земле, потребовались плети и жестокие законы. Высший класс отсталого народа, ослепленный бусами, почувствовал, что ему необходимы тысячи вещей, до такой степени не нужных, что еще вчера о них он не имел понятия.
Внедрение так называемой европейской культуры всюду легло тяжелым гнетом на народные массы. Народу пришлось не только добывать себе и господам хлеб насущный, но и оплачивать бесчисленное множество вещей излишних, составляющих предмет моды, т. е. помешательства хотя невинного, но ненасытного. К удивлению поклонников прогресса, чем теснее сближались с Европой восточные страны, тем сильнее в них развивалось крепостное право, тем быстрее развивались налоги, идущие на содержание культурного класса, тем быстрее росли государственные долги, тем окончательнее страны беднели и тем бесспорнее теряли вместе со своею национальною культурою – всякую иную.
У нас как-то плохо замечают, что соблазненный чужою культурою высший класс перестает быть аристократией своего народа. Он делается чужою аристократией и уже действует в своей стране, как в чужой, без уважения к ее началам, без желания доводить их до совершенства. До сближения с Европой мы имели, как и всякий народ, свою национальную знать, представителей какой ни на есть, но народной культуры. Сословие бояр у нас было – как лорды в Англии или бароны в Германии – учреждением органически-народным, и даже более народным: у нас дворянство не было потомством завоевателей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу