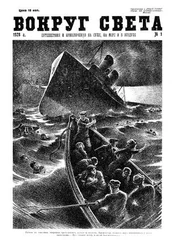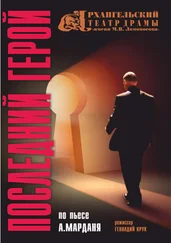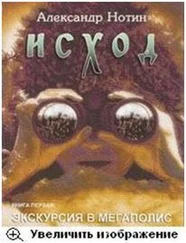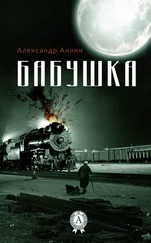А было «это самое» тем, что именуется рабочим гонором, жилкой городскою: мол, мы на заводе да на фабрике вкалываем, а не кур по сараям щупаем. И чем больше огородный, печной да бассейный уклад жизни обитателей Курлы-Мурлы смахивал по виду своему на колхозный быт, тем упорней жильцы нашего двадцать восьмого квартала выказывали свою городскую спесь, словно отпихиваясь, открещиваясь от деревенских. «Мы — городские! Нам по полторы тыщи старыми деньгами плотют».
В то время не отвыкли еще от прежних цен, то и дело сравнивали их с ныне действующими, переводили: сто пятьдесят новыми — это ж полторы тыщи старыми! Выходило огого сколько. Не то что беднота колхозная получает, там пенсия — четвертной на месяц, и то скажи спасибо, да получка — полтинник, если только ты не в передовиках числишься… Вот и кормятся подножным кормом, всю жизнь своих клуш холят да пестуют. А нам кур этих вшивых да скотину капризную держать не надо, мы в помете ковыряться не приучены. Ну, овощи да зелень посадить на огороде, огурцы на закусь, чтоб только земля даром не пропадала, это дело другое, это само собой, это не зазорно.
И несли друг другу на пробу, у кого чего уродилось — лук ли зеленый, редисочку, а то и огурцы переросшие. Зелень для соседей не жалели, и всегда один у другого мог разжиться то укропом, то петрушкой, а то и свеколкой с морковкой для щей.
А уж поросенка взять на откорм… Такой человек определялся молвой в выскочки, про него говорили: «Ишь ты, один стал умнее всех», — а умных не любили, потому что умные-то и были на самом деле самыми большими дураками, ведь только дурак пойдет один против всей улицы.
Деревенские тоже нас не любили. Мы для них были вроде бы и свои, а с другой стороны — стали уж больно о себе воображать. Пацаны из Заболотья время от времени целой ватагой совершали набеги на нашу и соседние, «задние», улицы. Вызывая городских мальчишек на драку, они орали что есть мочи обидные стишки: «Городская вошь, куда ползешь? Под кровать, навоз хлебать!» — и оглушительно щелкали пастушьими кнутами. Нашим мальчишкам выходить из домов и драться с деревенскими было страшно, и пацанов из Заболотья прогоняли мужики да бабы. Деревенские, цыкая сквозь щербатые зубы, длинно плевали на асвальт поганый , нехотя и с ленцой убирались восвояси. Я еще застал то время, когда, помнится, говорили исконно-правильно: не восвояси, а во своя вси , в свою весь , что постаринному значит «в село, в деревню к себе».
Иной раз, правда, мальчишкам из Заболотья удавалось накостылять какому-нибудь зазевавшемуся, не успевшему юркнуть в свою калитку мальчугану с КурлыМурлы. Подвернулся им как-то Борька Дашковский, грузный широкомордый увалень, чуть постарше меня, живший в кирпичном беленом доме на краю квартала. Его деревенские побили сильно. Падая, Борька саданулся головой об угол дома и с тех пор стал умишком слаб, перевели его учиться в седьмую школу, которую все мы называли не иначе как «шэдэ» — школа дураков, она была для умственно отсталых мальчиков и девочек. Наши пацаны, которые ходили в десятую школу, завидовали шэдэшникам из седьмой: мало того, что их не сильно спрашивали и совсем не «гоняли» по предметам, так еще вдобавок они вечно стояли на пятачке возле углового входа в здание школы и курили, и ничего им за это никто не делал. А нормальных мальчиков за курево прорабатывали.
Было, конечно, еще одно, прямо скажем, немаловажное обстоятельство, которое подчеркивало отличие «задних» егорьевских улиц от той же деревни Заболотье, которая где-то далеко примыкала к избяным городским кварталам. И пожалуй, оно-то, это самое обстоятельство, было главным в то время: понад улицей Карла Маркса высились церковные купола Александра Невского — действующей, чудом каким-то устоявшей и неразрушенной церкви, где взаправду шли Божьи службы, где по-людски отпевали упокойников … И шли к нам в церковь со всей округи — хоть на праздник или хоть просто помянуть родню — из враждебного Заболотья, из Корниловской, из Ефремовской, из Семеновской да Селиванихи, Бережков и Акатова, где помолиться за здравие и за упокой людям было просто негде. И это куда больше, чем заводская получка в «полторы тыщи старыми», добавляло чванливости обитателям изб на городских задах, осененных высоченной колокольней Ксан-Невского .
Хотя, впрочем, была еще одна действующая церквушка на окраине, ближе к кладбищу, на Нечаевской улице, ее так и зовут по сей день — Нечаевская церковь, в честь Алексия, митрополита Московского, который много сделал во времена, далекие для этих мест, — отдал здешний Гуслицкий край под руку Чудова кремлевского монастыря… Это много значило в те века. Но туда, в Нечаевскую церковь, почти никто не ходил, даже если жил поблизости. Мол, красивая церковь, чего тут говорить, да уж больно маленькая, не шибко громко там старухи певчие поют, я лучше в большую пойду, в Александра Невского! Там весь город молится, я там знакомых встречу, а кого я встречу здесь, на самых-самых задах, на Нечаевской-то?
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)