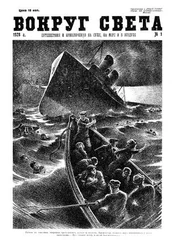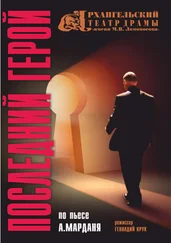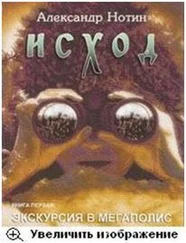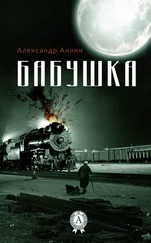Неинтересно в церковь идти, если знаешь наперед, что никого не встретишь. И все шли ко всенощной субботними вечерами в нашу церковь, а по воскресеньям или на какой великий праздник — так утром, к семи да к девяти, на раннюю или позднюю обедню. Обычно отстаивали обе службы — и раннюю, и позднюю.
Здесь и куличи с яйцами на Пасху святили, или березовые ветви на Троицу, или вербочку на Вербное, мед на Медовый Спас, яблоки — на Преображенье, орехи — на Спас Нерукотворный. Отсюда же, из Александра Невского, и в последний путь своих «упокойников» провожали.
Это была особая такая, коллективная вера в Бога, в обычаи и традиции. По отдельности-то каждый жил как безбожник, себе на уме, соблюдал свою выгоду, слушался жену да начальство… А вот вместе — тут совсем другое дело, тут, откуда ни возьмись, являлся перед честным народом мужик набожный, готовый морду набить за церковь православную или за хулу на священников да храм Божий.
Точно так же и в коммунизм верили разве что коллективно, артельно , дескать — само собой, построим мы этот самый коммунизм, обязательно построим! «Партейные» люди все правильно говорят, а мы их слушаем. А дома у себя враз умнели все, выгадывали, как дожить до получки да что бы такое измыслить, чтобы жилось чуток полегче да посытнее.
Тогда, в семидесятом, о людях партейных еще говорили и думали как о каких-то особых, отмеченных некой печатью — в общем, избранных, не таких, как простой народ. «Партейный»… Это слово произносилось с разными интонациями, приличествующими случаю. Иногда — с уважением, иногда — с презрением или злобой, а чаще всего — как-то двусмысленно, с пониманием, что метит человек в начальство. Или что, мол, его «выдвигают». «Партейные», в представлении тогдашних егорьевцев, никоим образом не смешивались с обычными, нормальными людьми, как не смешивались староверы и кацапы.
И если беспартийная выходила за коммуниста, то это означало особый, непростой выбор дальнейшей судьбы, некую совершенно иную жизнь, отличную от обычной. Которая пойдет по другим, не нашим порядкам, с иным укладом. А случаев, когда беспартийный женился на коммунистке, не было вообще. Я не припомню, чтобы такое диво хоть раз обсуждалось у бассейны. Это было все равно как если какой-нибудь электрик с текстильной фабрики вдруг женится на начальнице своего цеха: нормальной семейной жизни тут быть не может.
6
Церковь, баня и кино — вот какие были три главных утешения для рядовых егорьевцев той поры. В каждом из этих мест было по-своему душевно, тепло и отрадно. И обходилось их посещение совсем недорого — не то что в кафе пойти или в гости или хоть бы даже на танцульку: в горсаду за билет на танцы сорок копеечек заплати, а в церкви свечка стоит копейку, кино — гривенник-другой, баня — пятиалтынный. В бане к тому же и выпить можно в чистом теле, в неге да уюте, вспомнить старину городскую в чинных беседах с дедами «остатними», последними. Вот уж где старикам и впрямь был почет, так это в бане! Им наливали, от них ждали рассказов про времена далекие, царские или хотя бы — довоенные. Ну, про те же бани егорьевские, например.
Потом эти разговоры расходились по округе, бабушка пересказывала их мне.
— Ты, Сашуля, в Рязанскую-то баню не ходи никогда, не надо, — время от времени наставляла меня бабушка.
Рязанская баня стояла на одноименной улице, за церковью, потому так и прозывалась.
— А почему в нее нельзя ходить, бабушка?
— Да уж потому, — с осуждением поджимала бабушка губы. — Нельзя, Сашуля. Когда перед войной взорвали на площади Белый собор-то, груда обломков не токмо до войны, а и после войны лежала, никак не доходили до нее руки у властей. А говорили ведь, нелюди, что мешает собор движению, врали народу-то. А груда, выходит, не мешала, так, что ль? Думали, что кирпича будет много, что построят из него всякие дома для рабочих. Вот и взорвали. А того не подумали, что раньше-то, когда Белый собор строили, цемент на сырых яйцах замешивали. Мильёны яиц извели, самый большой собор во всей России-матушке построили!
Я очень любил яичницу-глазунью, мне было жалко, что пропало столько яиц.
— Лучше бы эти яйца людям на яичницу отдали, — бурчал я.
— Эх, Сашуля, тогда у людей всего вдосталь было, хоть завались, а уж яйца-то за дело никто не считал. И не жалели их для церкви. А цемент такой прочный получился, что перед войной не смогли разобрать обломки по кирпичику, они не поддавались. Куда девать? Дробили куски стен на мелкие кусочки, дорогу в Москву мостили… Помнишь, Саша, мы из Вологды в Егорьевск по этой самой дороге ехали?
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)