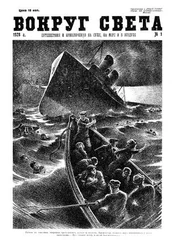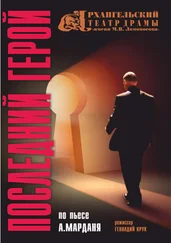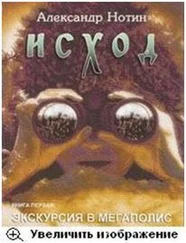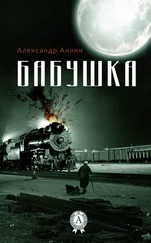— По трешнице берут… — И смотрит виновато куда-то в сторону.
А я вспоминаю, как в прошлом году мы все — я, папа, мама, бабушка и сестренка Катя — сидели на крыльце и выковыривали из вишенок, из владимировки нашей, скользкие косточки: поддевали их завитком английской булавки. Ягоды брызгали соком, наши лица и руки были все в лиловых пятнах…
И крыжовник колючий обирали, мы с Катей под самый куст на спине подлезали, словно в шалаш сказочный, смотрели снизу вверх, как взрослые хмуро и сосредоточенно рвут свисавшие сережками крыжовины, похожие на крохотные арбузики. Потом ножницами обстригали у тугих ягодок сочные хвостики и пожухлые коротенькие хоботки. А потом папа, мама и бабушка варили варенье в мятых алюминиевых кастрюлях — бросовых, с отломанными ушками, потому что хорошие да новые кастрюли жалко было портить многочасовой варкой варенья на чадящем керогазе. Мы с Катей вились возле ног у взрослых, ждали пенок… Пенки эти были намного вкуснее варенья, особенно если их есть горячими, пахучими — а то чуть опоздай, и пенки «слеживались», отсякивая сироп.
Вишневые пенки были самые вкусные, нежно-розовые, а крыжовные — тоже ничего, серозеленоватые.
— Вам как — на хлеб намазать или пуговками? — спрашивала мама.
— Божьими коровками, божьими коровками! — захлебывалась Катя от предвкушения.
Я, конечно, выбрал бы лучше «на хлеб намазать», так больше пенок получалось на бутерброде. Но и в «божьих коровках» была своя красота — мама аккуратно капала вишневые бугорки на белый хлеб, и, действительно, это было похоже на стайку божьих коровок…
— Я только дветри литровые банки вишневого без косточек варю, — признается бабушка. — А так — прямо с косточками. Только надписать надо, где с косточками, а где без косточек, чтобы потом зубы не сломать. С косточками лучше, а то и впрямь весь сок вытекает, пока их вынешь.
— А не боисся костощек-то , Оль? — пытливо смотрит тетя Рая из под своих белесых бровей. — Мотри, помереть от них можно…
Обе вздыхают скорбно, а я уж наперед знаю, что сейчас бабушка и тетя Рая будут вспоминать, уж не в первый раз, недавнюю историю, которая случилась то ли в Починках, то ли в Поминове, а может, в Пожинской… В памяти засело только, что название деревни на «по» начиналось.
В общем, играли там свадьбу, и вся деревня собралась на дворе у невестиных родителей… Помню, сам выбор места проведения той роковой свадьбы — невестин двор — вызывал у бабушки и соседей неодобрение: мол, как же так, деревня вроде старинная, исконная, а туда же — мужик в примаки к жениной родне пошел, будто в городе, вот беду и накликали. Ничего хорошего не жди, если примаком стал, в общем. У нас на Курлы-Мурлы был один такой, возле Дома пионеров жил, его все так и звали — Примак, и никто из мужиков с ним водиться не хотел, несмотря на то что этот дядька очень любил пить водку и вино. В одиночку пил, потому как — примак. А вот дядю Витю примаком никто не считал, ведь тетя Рая не местная, а он местный. Имеет право к ней поселиться. Да и жилье-то у «Райкикуркулихи» не родительское, она получила его прямо перед свадебкой, считай, что им обоим и дали.
А на свадьбу в Пожинской (Поминове, Починках?) принесли столы и стулья из соседних домов, простыни заместо скатертей — как обычно. Пили самогонку, водку и вино, все пьяные стали, кроме молодых, конечно: им не положено, им только на другой день пригубить можно, а то дети неполноценные пойдут.
И тут мать невестина — хлоп себя по лбу, кричит на всю ивановскую:
— Ну как же так, вот ведь склероз, а про настойку-то вишневую, свойскую, я и забыла!
Ну, полезла в подпол за бутылью, несет эту настойку свою: я, грит, специально для свадьбы ее делала. И всех чуть не насильно заставила выпить по рюмке за здоровье жениха и невесты.
В живых остались только дети малые, которые под столом да на дворе играли, еще свекор, которого снесли перед тем пьяного вдугаря на сеновал, и невеста, которая все-таки отбрыкалась от мамашиного угощения.
— А все потому, Оля, что мать невестина свою настойку вместе с костощками настаивала. Вот как отрыгнулись костощки эти вишневые, синильная кислота там, оказывается, — приговаривала тетя Рая.
А бабушка хмурилась:
— На все воля Божья…
5
Было что-то такое… неуловимое для постороннего глаза, и это «что-то» делало нашу улицу именно городской, а не деревенской. И уж это, конечно, вовсе не бугристая асфальтовая дорога с чугунными колонками по обочинам (мы называли эти колонки «бассейнами»: «Куда идешь?» — «На бассейну»). И не черные от смоли столбы-фонари с косыми подпорками-бревнами, один из которых, «наш», по ночам слепил меня сквозь веки желтым светом.
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)