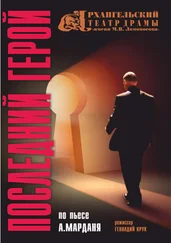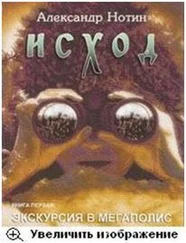— Прости меня! Прости меня! — слышится то там, то сям.
Один мужик, на вид уже старый, хватанув слюнявым ртом полстакана водки, рвет на себе рубаху, крест вываливается на замызганном шнурочке… Вот, кстати, откуда пошло слово «расхристанный» — это уж бабушка мне потом объяснила, когда я подрос: расхристанный — значит пьяный в разодранной рубахе, так что Христос распятый, на кресте нательном, виден всему честному народу, а так не должно быть, ибо нательный-то крест заголять не след, и, кроме как в бане, чужому взору открывать его нельзя, грех большой.
Бухается расхристанный мужик на колени в грязный снег, голосит надсадно:
— Простите меня, люди добрыи-и! Простите, православныи-и!
И — хлобысь жаркой мордой в подтаявший, унавоженный снег, в месиво бурое.
На «добрых людей» этот порыв сердечный, искренне-юродский, должного впечатления не производит, разве что посмеивается кто-нибудь привычно.
— Будя тебе, дядь Назар, вставай! — кричат покаянному дедуле. — Иди выпьем да блином закусим!
Проворно семенит дядя Назар к веселой компании возле столика, отряхает с пылающей хари налипшие грязные комья.
— Прости, Оля, — кланяется бабушке какая-то щуплая, согбенная тетка.
— Бог простит, и ты прости меня, Ксеня, — чинно ответствует бабушка.
Они обнимаются, целуются.
— Прощеное воскресенье сегодня, Сашик, все друг у друга прощение просят, — говорит бабушка.
Но у меня при этом она почему-то прощения не просит.
— А как же проводы зимы? Ты обещала! — куксюсь я притворно — мне так радостно, что тянет подурачиться.
— Будут, будут проводы зимы, сегодня Маслену скатывают.
Я не успеваю спросить, что значит «скатывают», потому что… разеваю рот в изумлении и восхищении.
Во всю ширь мостовой идет-грядет вереница ряженых. Предваряет их знаменитый на весь город юродивый по прозвищу Безлобый — с неизменной своей гармошкой, наяривает что есть мочи рвущий нутро напев, чуть не за спину свою худющую, с ходуном ходящими лопатками, растягивает мехи… Безлобый — это Божий человек с нашего квартала, из двухэтажного бревенчатого дома возле заросшей детской площадки. У него и впрямь чуб растет от самой переносицы. Безлобый не говорит даже, а давится исторгаемыми из глотки утробными звуками, мычит да подвывает, но человек он безобидный: сидит себе под крыльцом, почерневшим, на приступочке, уткнется в гармошку свою и играет неспешно, задумчиво.
Чуть отстает от Безлобого, сипит и задыхается от ходьбы красный командир Гунявый — толстый дядька в коричневой брезентовой дерюге, голова повязана тряпкой, за плечами вещмешок наподобие сумки почтальона, а торчат из этого мешка всякие дощечки да палочки, их Гунявый собирает повсюду. Он верещит время от времени грозно: «Бери-бери-бери!» — грозит кому-то штакетиной.
Я всегда боялся этого дядьку с пылающим лицом, его требовательного, похожего на боевой клич верещанья.
— Он командиром был в войну, его в голову ранило, никогда не обижай заслуженного человека, Саша, — наставляла меня бабушка.
Куда уж мне его обижать! Мне не обижать, а отбежать бы от Гунявого подальше всякий раз, как он (всегда внезапно) оказывается рядом.
Но в этот раз я лишь мельком подмечаю Безлобого и Гунявого, потому что все внимание мое, да и всех толп народа вдоль мостовой, обращено совсем на других существ. За двумя юродивыми шествуют на высоченных струганых шестах скоморохи — в красных сапожках с загнутыми носками, в красно-желтых кафтанчиках, в колпаках с бахромой…
— На ходулях, на ходулях! — кричат все вокруг.
И бабушка вторит народу:
— На ходулях, Сашик, смотри!
Гигантскими шагами, как в детской игре, идут величаво скоморохи. За ними на фанерной огромной расписной печке-лежанке едет лежа Емеля из сказки — пьяненький, поющий что-то и прикладывающийся то и дело к бутылке с вином. Его почему-то кличут Лёхой.
А за печкой нарядной, что подрагивает на колесах, возвышается на широкой деревянной платформе сама Зимушка-Зима — об этом взахлеб, надтреснуто и с ухлюпами вещает громкоговоритель на столбе:
— Встречайте, люди добрые, Зимушку-Зиму! Да провожайте ее с миром, дорогие егорьевцы! Спасибо тебе, зимушка-зима, что не очень лютая была! Спасибо, что приходила в гости к нам, да еще спасибо, что уходишь!
Мужики и бабы, что выпивают поодаль, вдруг как грянут:
— Ох ты, Зимушка-Зима, ты морозная была!
Бабушка недовольно супится:
— Ерунду говорят какую-то по радево… За что же зиме спасибо-то говорить? Скорей бы уж растеплилось, надоело печку топить… У всех газ теперь, вот и бесятся с жиру, это ж надо придумать — зиме спасибо говорить! И не Зима это вовсе едет, Сашуля, а это Масленица. Теперь сжигать ее будут возле ГэВээФа.
Читать дальше
![Александр Аннин Бабушка [журнальный вариант] обложка книги](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-cover.webp)