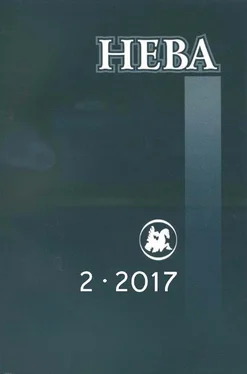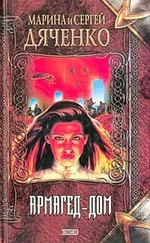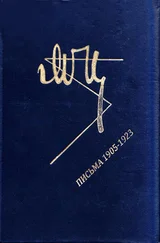— Хтойзнть? Львович твой! — перебивала Поля, прервав заплачку. — Пущай за бабой лучше смотрить.
Обе уставали в препираниях и замолкали. Геля была не такая глупая, чтобы воображать речного рака цвета дедовой военной фляжки или лужи за домом, где они с Сашкой ловили головастиков. Она понимала, что так называется болезнь. Ей, как и Поле, казалось, что в болезни этой виноват кудрявый, чернявый Григорий Львович с отменным аппетитом и до известной степени красавица Лиля. Никакого рака Геля не воображала, зато в картинах представляла себе месть Григорию Львовичу. Месть заключалась в черном мече, висящем на черных цепях. Такие рисовал Сашка в тетради по русскому. В наколдованный момент меч самопроизвольно срывался с цепей и летел прямо в диагноз, поставленный негодным врачом, как щит. Григорий Львович был первым человеком, которому Геля желала смерти, и от этого делалось не по себе. Еще одно странное выражение. «Не по себе» — а по кому?
Прошло ползимы, когда Бабуль сказала, что деду выдали путевку в санаторий. Он никогда ни в какие санатории не ездил. И теперь не хотел. Сидел нахохленный, губы обметало белым. Очень худой, уменьшенный. Подробно наблюдал, как Поля растапливает русскую печь, жжет бересту, прогревая трубу, укладывает дрова в горниле. Сказал:
— Ты вот что, Геликониха, — он Гелю иногда так звал, — ты смотри, чтобы тут Бабуль не хулиганила.
Голос тоже уменьшился, приглох.
Геля заплакала.
— Ну! — сказал дед. — Ты же теперь знаешь, что такое проверка на вшивость. Вот и меня проверят — и отпустят.
Шутит, поняла Геля, но не засмеялась.
— Тебя керосином небось не намажут, — отшутилась она, как умела.
— Кто знает, чем они там мажут. Тыком в основном, — сказал дед и налил грелку. Она давно не помогала. Зато Геля вдруг постигла, что такое Полино «хтойзнть»! А «тык», она думала, это такой инструмент.
Когда дед садился в машину — вернее, его туда втаскивали Бабуль и Слава, Геля полновесно поняла, что в последний раз видит того, кого любила сильнее всех остальных людей на свете, исключая Бабуль. Он носил широкие плещущие брюки, в которые сейчас можно было свободно засунуть еще и Славу, и пиджаки с острыми выступающими лацканами. В пиджак теперь можно было одеть одновременно не менее трех рыжих «отнемцев». Пальто и шапка пирожком тоже были как чужие. Дед слабо клюнул белой рукой, подзывая Гелю. Она подошла, встала, помня про придавленный ноготь, сжав руку в варежке в кулак и не берясь за дверцу.
— Не руби деревьев, — сказал дед хрипло.
Геля отшатнулась.
— Крэдо ин ун Дио крудэль, — выдавил дед, глядя на Бабуль. Она отвернулась, поворотилась, ушла, возвратилась, опустив не плечи, а все большое тело, и припала зачем-то к Полиной сальной «куфайке» и шали в мутную клетку.
— Пора, — сказал дед равнодушно.
Слава уже завел машину, когда перед капотом возник одичалый призрак в лоснящемся кителе времен войны, солдатских штанах и галошах, надетых на серые носки деревенской вязки. Серосуконная ушанка со спекшимися завязками приросла к голове и обсадилась курчавыми грязно-серыми волосами.
— Данил-а-а-а! Иди отседова! — крикнула Поля, словно он стоял на другом конце леса.
Данила в пояс поклонился машине и криво ее перекрестил. Дед, уже отчуждившийся от самых дорогих, вдруг открыл дверь и стал выпадать, косо, по амплитуде маятника, забыв вынести опорную ногу. Бабуль подхватила его, не удержала, и он вытянул руки в снег, будто готовясь отжиматься. Выскочил Слава, дотянулась Поля, и они вдвоем под руки подняли деда.
— Вставай, солдат! — сказал дед Даниле, будто это он упал. — Хватит печку пролеживать. Тут бабы одни остаются. Видал, что со мной?
— Смерть ходить кажный день, — это было первое заявление, которое Геля слышала из уст Данилы. — Кажный день, — воспроизвел он приподнято.
Дед закивал, сглатывая горловые слезы. Бабуль бросилась к нему и, не прекращая целовать вдавившиеся внутрь щеки, тоже крестила, крестила мелко, нагибая деда и вдвигая обратно. В заранее подготовленный подкоп просочился Яго, успел разбежаться и бросился на машину передними лапами, царапая стекла и волнообразно подвывая.
— На место, на место! — ослабевшим голосом закричала Бабуль.
Тоже откуда ни возьмись взялась Тоня, задергала Данилин рукав:
— Папкя! Пошли домой, папкя!
— Опеть неладно, — тоскливо сказала Поля.
Геля, для себя нежданно, вдруг тоже прижалась к ее «куфайке», отдающей русской печью и куриным пометом.
Читать дальше