— Что? — спросил Левон. — Уже вторую ухайдакали? Верно, Вильчицкий Юле дал?
Но Акулина только возила тряпкой по скамье и молчала. Тогда Левон толкнул Даника на Акулину, и та шлепнула его грязной тряпкой по лицу. Тьфу, кажется, еще и сейчас воняет!.. Все — и школа и сам учитель воняет кровью и требухой…
«Панский подлиза», — говорят в деревне про Цабу.
Пока Даник раздумывал, стоя на коленях, большаком из местечка брела по талому снегу Акулина. В старых солдатских валенках, задыхаясь, она несла с почты большой тюк. Вот она мелькнула в окне… во втором…
— Книжки! Книжки несет! — зашумели дети.
Акулина внесла пакет, напустила со двора холоду, натащила валенками снегу.
— Ух, пане! — вздохнула она, поправляя платок. — Чтоб их холера взяла!.. Вот вам еще и записка.
— А ты не ругайся, дура. Пошла вон!
Акулина сгорбилась и вышла.
— Ну вот, — сказал учитель. — Получайте то, чего так хотелось вашим родителям. Тутай — бялорусске элементаже «Зорька». Кто из вас уже умеет читать?
Даник оглянулся. Да и оглядываться не надо — и так слышно, как заговорил, поднял пуки весь класс:
— Я! Я! И я!..
— Праве вшысцы, — проворчал пан Цаба. — Ну что ж, пшынай-мней не тшеба мне будет лишне заврацаць себе голову [6] Почти все… по крайней мере, меньше придется морочить себе голову.
.
Он помолчал.
— А кто же вас научил? — спросил он.
Оказалось — кого отец, кого даже мать, кого — старший брат, а троих — Яна Буслика, Влодзимежа Чарадойлу и Шимона Мамоньчика, как называл их учитель, — научил Данель Малец.
— Ты? — переспросил пан Цаба. — А ну встань!
Даник встал и обернулся к классу.
— А кто тебя научил? Ну, чего в землю смотришь?
Сивый молчал, только исподлобья поглядывал на учителя.
— Не скажешь? — продолжал пан Цаба. — Думаешь, я сам не знаю? Иди обратно в свой угол!
Даник повернулся и привычно стал на колени.
Он не сказал, не назвал своего настоящего учителя. И не скажет. Не пану об этом рассказывать!..
Четыре месяца прошло с того дня, как у них в Голынке, как и во всех окрестных селах, состоялся сход, на котором крестьяне потребовали от панов школы на родном белорусском языке.
В то воскресенье в классе было полным-полно. За столом сидели пан Цаба, еще два каких-то пана из местечка и пан полициант. Не кто иной, как он, Даников друг, Микола Кужелевич, показал панам большой, сложенный вдвое лист бумаги. На этом листе было написано то, что называется таким необыкновенным и, должно быть, очень могучим словом — протест.
— «Мы, крестьяне деревни Голынка, — читал Микола, — заявляем протест против того, чтобы наши дети учились не на родном языке, и требуем, чтобы у нас открыли белорусскую школу…»
Даник знал — не кто другой, как он, Микола, писал этот протест. А подписала его вся деревня — с конца до конца. Даже солтыс, Марко Полуян, подписал. Молчал, выжидал, а все-таки подписался.
Весь большой лист исписали, кто карандашом, кто чернилами, кто фамилию поставил, а кто — крестики. Где-то там, среди первых, стоят и мамины три креста. Под ними рукой Миколы написано: «За неграмотную, по ее просьбе, подписался:», а еще ниже рукой Даника — Д. Малец.
На сход в школу ребят не пустили. Даже от окон Цаба отгонял. Окна были открыты, и все слышно было издалека. Впрочем, Даник притаился за березой под окном и самое важное видел.
— Не нужна нам панская школа. Она нашим детям не мать, а мачеха. Да и мачехи бывают лучше! Не нужен нам и учитель, что за объедки с панского стола продался панам душой и телом! Не хотим мы и порядков таких, когда на нашего брата глядят как на скотину, когда каждый может ткнуть тебя ногой, как свиную лохань… Мы заявляем протест!..
Так говорил тогда Микола. Так говорили и другие хлопцы и дядьки.
Паны молчали. Цаба сидел красный как рак и только сопел. И полицейский молчал, обеими руками опершись на ружье, зажатое между колен.
Примерно через месяц Миколу забрали. Тот самый полициант и еще один с ним гнали Миколу по деревне утречком, когда ребята шли в школу. И нельзя было никак подбежать к другу, шепнуть: «Может, принести тебе, Микола, то, что стоит у вас в углу сарайчика за дверью? Я сбегаю…» Нельзя было сказать, потому что полицейские отгоняли их, а один даже крикнул:
— Большэвицке щэнента! Прэч! И вам до вензеня захцяло сен? [7] Большевистские щенята! Прочь! И вам в тюрьму захотелось?
Даник, вместе с другими ребятами, шел поодаль, там, где, голося, плелась тетка Алена, Миколова мать.
Читать дальше
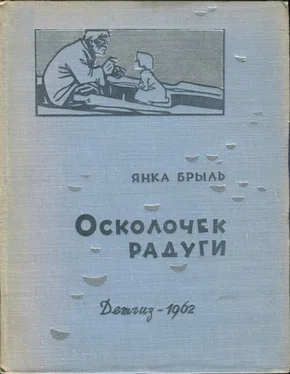




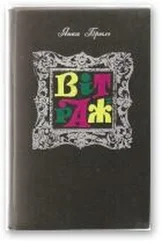
![Янка Брыль - Блакітны зніч [Лірычнае]](/books/89478/yanka-bryl-blakІtny-znІch-lІrychnae-thumb.webp)



