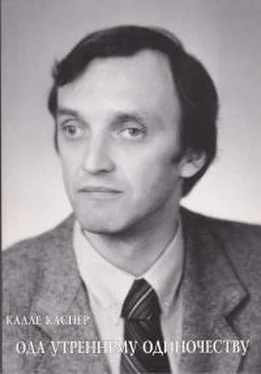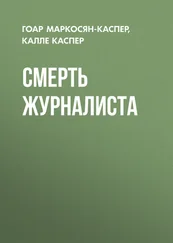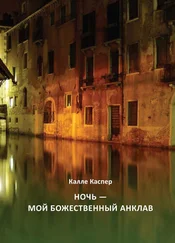Понятно, что наши с Джульеттой счастливые дни остались во времени, когда мы, гуляя по Еревану, мечтали о Москве — потому что о каком городе мы должны были мечтать теперь, когда климат на долгие месяцы отнял у нас даже саму радость прогулок, и нам пришлось проводить долгие часы, таращась друг на друга в чужой квартире, напоминавшей больше походный лагерь, чем дом? В человеческих отношениях бывают вещи, о которых по некому взаимному безмолвному уговору умалчивают, иногда до самой смерти, потому что говорить об этом означало бы уничтожить еще более или менее приемлемое настоящее. Мы оба довольно быстро догадались, что вместе не останемся, но говорили об этом только на языке плоти с тем особым акцентом отчаяния, который особенно хорошо, если верить романистам, известен приговоренным к смерти. У наших объятий был привкус ткемали. Джульетта знала, что из меня не получится такого мужа, какого требует ее капризная природа, а я знал, что она это знает. Несмотря на это, мы оба делали лихие попытки укротить друг друга, втянуть в свою биографию, заставить, как умного дельфина, плыть по заданной дорожке. Я хотел быть свободным, как Генри Миллер, даже если ради этой свободы мне пришлось бы жить в такой же бедности, как он. Джульетта же старалась сделать из меня если уж не банкира в литературе, своего рода барона Оноре де Нусингена, который одной рукой пишет «Человеческую комедию», другой подписывает дисконто и жиро, а в зубах держит очередной браслет или серьги для золотоволосой боттичеллиевской Весны, имевшей с Джульеттой небольшое сходство, то, по крайней мере, нормального армянского мужа. Иными словами, человека, который всю свою внедомашнюю деятельность посвящает не удовлетворению своих амбиций, а обслуживанию этого самого дома, снабжению его звонкой монетой и мясом для шашлыка. Построить устраивающее нас обоих будущее при таком раскладе было, конечно, невозможно, но у нас отсутствовало и то, что многие потерявшие, по выражению Данте, надежду пары (брак ведь тоже ад) лелеют нежно, как вольтеровский сад, чтоб сохранить остатки былой любви, — общее прошлое. О чем мы должны были говорить друг с другом, я — о своем браке с Анаит, а Джульетта — о том, как она до меня уже отбила мужей у двух женщин? Увы, главная характеристика судьбы не юмор, а ирония. Нам оставалось одно: молчать, убегая от прошлого и будущего туда, откуда как раз пытаются обычно бежать, — в настоящее. Но как вы уже знаете, скользкое и негибкое настоящее меня никогда не привлекало, и потому, ввиду отсутствия лучших воспоминаний и даже против собственной воли, я продолжал мысленно свой бесконечный спор с Анаит. Изо дня в день в метро, в троллейбусе, вечером под бормотание телевизора в нашем походном лагере я пытался объяснить своей бывшей жене, что она ошибается, связывая свою жизнь с судьбой народа, а не мужа, на что Анаит обычно мне в ответ выкрикивала: «Атум ем!» [19] «Ненавижу!»
, «Коранам ес!» [20] «Чтоб я ослепла!» — последними словами выражают удивление, ужас и т. п.
или «Миацум!» Эти ссоры прекращались лишь тогда, когда Джульетта в третий, четвертый или десятый раз окликала меня, подталкивала или кусала. Прошлое стало преследовать меня даже в снах, там я чаще всего видел Анаит ползавшей по скалам с армянским триколором в одной руке и гранатой в другой.
Одна из наиболее частых ошибок, допускаемых женщинами, — это неумение мириться с тем, что мужчины от них отличаются физиологически: возникает впечатление, что они ставят перед собой цель превратить партнера в похожее на себя беспамятное существо, которое живет только изменчивым — климатом, модой и капризами. Джульетта могла расцарапать меня до крови, если я не поворачивал головы в ответ на ее очередное чириканье. Она не понимала, что я не реагирую потому, что чириканье это напоминает мне о ереванских воробьях, мне начинает казаться, что я нахожусь там, а не в Москве. Если б она пела, как соловей, или хотя бы щебетала, как синица, которых в Ереване, несмотря на утверждение Мандельштама, не водится, я, наверно, возвращался бы в наш походный лагерь сразу, теперь же это случалось только после того, как птичий голос сменялся кошачьим — на рычание ее голосовые связки, к счастью, были неспособны. Тогда, оторвавшись от созерцания Лебединого озера [21] Пруд рядом с театром оперы и балета.
или Киевянского моста, я обнаруживал, что сижу напротив стареющей женщины. Но как только Джульетта убеждалась, что мое внимание вновь сосредоточилось на ней, она моментально молодела и начинала сиять, словно фонарь, включающийся от фотоэлемента. Мир, таким образом, полностью зависел от моей воли, от того, смотрю ли я на нее, и если да, то каким взглядом: влюбленно или изучающе, собирая материал для романа. Реализм — это бессмысленное направление искусства, ведущее в никуда; ведь в любом случае все, что я пишу, отражает происходящее внутри меня. Это относится ко всем писателям, в том числе и тем, которые полагают, что отображают действительность. «Война и мир» графа Толстого — это книга не о России и русских, а изложение графских наивно-патриотических взглядов. Писатель, старающийся любой ценой быть объективным, доказывает этим лишь отсутствие мыслей в собственной голове. Социалистический реализм можно было бы назвать коллективной формой скучного мышления, если бы мышление могло быть коллективным. Для писателя существует лишь один мир, который он может развивать, шлифовать и делать видимым для других, — его внутренний. (С преступниками дело в некотором смысле обстоит так же, почему надо в очередной раз воздать должное французам, изобретшим инструмент, позволяющий сократить тело именно на ту часть, в которой берут начало все преступления.) Кант, помимо прочего, был прав и тогда, когда говорил об объективности вкуса: только вкус и может быть объективен, в отличие от действительности, которая всегда является субъективной, потому что отображенная ее картина полностью зависит от того, насколько тонко ее может воспринять сознание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу