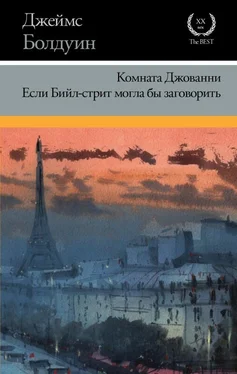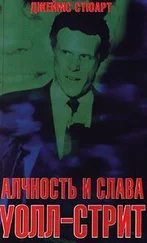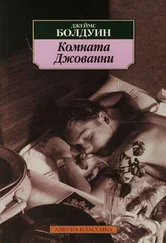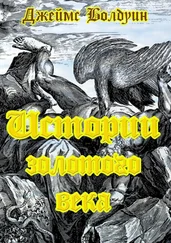– Пойдем вот так, – сказал он, и мы пошли по Шестой авеню к Бликер-стрит. Потом вышли на Бликер, и Фонни заглянул в большую витрину «Сан-Ремо». Из знакомых ему в «Сан-Ремо» никого не было, все там казались усталыми, мрачными, будто им не хотелось ни бриться, ни переодеваться к этому ужасному для них вечеру. Люди под усталым светом люстр были ветераны неописуемых сражений. Мы все шли и шли. Народу на улицах стало еще больше: подростки, черные и белые, и полисмены. Фонни шел, чуть выше подняв голову, его рука чуть крепче сжимала мою руку. У переполненного кафе толпились на тротуаре мальчишки и девчонки. Автомат крутил «Вот она, жизнь» Ареты. Странно! Люди высыпали на улицы, все гуляли, разговаривали, как всегда и везде, но не чувствовалось тут дружелюбия. Тут было что-то жестокое, пугающее. Бывает, смотришь и видишь: как будто настоящее, а оказывается – призрак, и вдруг заходишься от страха истошным криком. Все будто как в Гарлеме – пожилые люди сидят у себя на крылечках, ребята гоняют по улице, машины медленно двигаются сквозь этот водоворот, полицейская машина стоит на углу, в ней два полисмена, другие не спеша прохаживаются по тротуару. Все как в Гарлеме, но чего-то не хватает, а может, наоборот, добавлено что-то лишнее. Здесь было страшно. Нам приходилось пробираться сквозь толпу с осторожностью, потому что эти люди были слепые. Нас толкали, и Фонни обнял меня за плечи. Мы миновали таверну «Минетта», пересекли Минетта-лейн, миновали газетный киоск на следующем углу и по диагонали пошли в парк, притулившийся в тени новых давящих корпусов Нью-Йоркского университета и новых жилых махин к востоку и к северу. Мы прошли мимо мужчин, из поколения в поколение играющих в шахматы под светом фонарей, и мимо хозяев, прогуливающих своих собак, и мимо светловолосых молодцов в туго обтягивающих брюках, которые быстро взглядывали на Фонни и отрешенно смотрели на меня. Мы сели лицом к арке на каменный парапет недействующего фонтана. Вокруг нас были людские толпы, но я по-прежнему чувствовала эту ужасающую нехватку дружелюбия.
– Мне иногда приходилось ночевать здесь в парке. Не скажу, чтобы это было приятно. – Фонни закурил сигарету. – Тебе дать?
– Сейчас нет. – Раньше мне хотелось побыть на воле. Но теперь меня тянуло куда-нибудь под крышу, подальше от этих людей, прочь из этого парка. – А почему ты здесь ночевал?
– Задерживался допоздна. Не хотел будить своих. А голодный был, ни крошки во рту с утра!
– Мог бы к нам прийти.
– Вас тоже не хотел будить. – Он сунул пачку сигарет обратно в карман. – А теперь у меня тут неподалеку своя берлога. Я тебе ее покажу. Посмотришь какая. – Он взглянул на меня. – Ты озябла, устала. Хочешь чего-нибудь поесть?
– Хочу. А деньги у тебя есть?
– Да. Подработал кое-какую мелочишку. Пошли, детка.
В тот вечер мы нагулялись вволю, потому что Фонни повел меня на запад по Гринвич-Виллидж мимо женской предварительной тюрьмы к маленькому испанскому ресторанчику, где он знал всех официантов, а они все знали его. И эти люди были совсем другие, чем те, что на улицах, их улыбки были совсем другие, и я почувствовала себя гораздо лучше. Была суббота, но час еще ранний, и нас отвели к маленькому столику в глубине зала – не потому, что старались спрятать от любопытных взглядов, а потому, что нам были рады здесь и хотели, чтобы мы посидели у них подольше.
Я не часто бывала в ресторанах, но Фонни бывал, кроме того, он немного знал испанский, и я почувствовала, что официанты поддразнивают его из-за меня. А потом, когда мне представили того, который должен был обслуживать наш столик, – некоего Педросито, судя по уменьшительному имени самого молоденького здесь, – я вспомнила, что на нашей улице нас с Фонни прозвали Ромео и Джульетта и вечно подтрунивали над нами. Но не так, как здесь.
Я иногда отпрашиваюсь с работы, если можно повидаться с Фонни днем, а потом еще раз в шесть часов, и тогда прихожу из Центра в Гринвич-Виллидж, сажусь в глубине зала, и меня кормят здесь, не тратя лишних слов, заботливо следя, чтобы я поела – хоть немножко. Сколько раз Луисито, который недавно приехал из Испании и с трудом объяснялся по-английски, убирал тарелку с нетронутым, остывшим омлетом его собственного приготовления и приносил другой, горячий, говоря: – Сеньорита? Por favor [143] Пожалуйста ( исп .).
. Ему и вашему muchacho [144] Крошке ( исп. ).
надо, чтобы вы были сильная. Он не простит, если мы позволим вам голодать. Мы его друзья. Он нам доверяет. Вы тоже должны доверять. – Он наливал мне немножко красного вина. – Вино – это хорошо. Медлен-но! – Я отпивала глоток. Он улыбался, но не отходил от меня, пока я не принималась за еду. Потом: – Будет мальчик, – говорил он, улыбаясь, и уходил. Они помогли мне одолеть не один страшный день. Это самые хорошие люди из всех, кого я знала в Нью-Йорке. Они берегли меня. Когда ездить мне стало труднее, когда я отяжелела – Джозеф, Фрэнк и Шерон – все работали, а Эрнестина, как всегда, воевала, – эти люди делали вид, будто у них какие-то дела поблизости от тюрьмы, и с самым обычным и естественным видом, а для них это и было естественно, подвозили меня к своему ресторанчику, а к шести часам доставляли опять к тюрьме. Я не забуду этого: они все понимали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу