Бюро отца она долго не решалась открыть, но тут она не стала раздумывать — не время. Она взялась за дверцы там, где они сходились, и дверцы распахнулись обе вместе. Внутри секретер был похож на полку на сельской почте, куда годами никто не заходил за письмами. Почему все бумаги так и остались лежать под милосердным слоем пыли, избежав уничтожения? Лоурел твердо знала ответ: отец ни за что не стал бы их трогать, а для Фэй это была просто чья-то писанина, и тех, кто ощущал потребность писать, Фэй заранее считала побежденными соперниками.
Лоурел выдвинула доску секретера и стала вынимать письма и бумаги по очереди из разных отделений. Таких отделений в секретере было двадцать шесть, но Лоурел увидела, что мать распределила письма не по алфавиту, а по времени и месту получения. Только отцовские письма были сложены вместе — должно быть, тут лежало все, что он написал ей с первого до последнего дня, начиная с самых старых, пожелтевших конвертов. Лоурел вытащила один из них и, немного вытянув листок письма, успела прочесть только первую строчку: «Родная моя, любимая» — и сразу положила конверт на место. Письма были отправлены из разных городов, где отец вел судебные дела, или из Маунт-Салюса, когда мать уезжала «туда, домой», в Западную Виргинию, а под этими конвертами лежали письма, адресованные еще «Мисс Бекки Тэрстон», они были перевязаны почти прозрачными ленточками, ветхие, в желтоватых пятнышках, как кожа на руках ее матери перед смертью. В глубине ящичка с этими письмами лежало что-то твердое, и, не успев еще рассмотреть этот маленький кусочек, Лоурел уже на ощупь узнала его. Это был двухдюймовый сланцевый камешек, тщательно обструганный перочинным ножичком. Он лег на ладонь Лоурел, такой же теплый и шелковистый, как ее кожа, будто сохранил тепло, лежа в своем тайничке. «Тарелочка!» — восхитилась когда-то в детстве Лоурел, подумав, что камешек обточил какой-то малыш. «Лодочка!» — серьезно поправила девочку мать. На дне были вырезаны инициалы отца — лодочку сделал он сам, и она перешла из его руки в руку его невесты: камешек они нашли у реки, «там, дома», когда отец за ней ухаживал.
Фотографии тех времен были тщательно наклеены в альбом. Лоурел провела рукой по полке над отделениями, нащупала твердый переплет, шелковый шнур и сняла альбом с полки.
На первых страницах все еще держались два любительских снимка, мутные и посеревшие: Клинтон и Бекки, «там, дома». Они сфотографировали друг дружку на одном и том же месте, возле железной дороги, на лесной полянке: он, стройный, как трость, поставил ногу на придорожный камень и взмахнул соломенной шляпой, она — с огромным букетом полевых цветов, которые они собрали по пути.
— Такой красивой блузки у меня больше никогда в жизни не было, сама шила, а холст моя мама соткала и выкрасила в темно-розовый цвет и краску сама варила из лесных ягод, — объясняла мать Лоурел, и голос у нее становился важным, как всегда при воспоминании о «доме». — Никогда ни одной вещи я с таким удовольствием не носила.
Какой прелестной, какой кокетливой она была в молодости! — подумала Лоурел. Сама сшила блузку, сама проявила и отпечатала фотографии — а почему бы и нет? Она и клей, наверно, сама сварила, чтобы их наклеить.
Судья Мак-Келва, как и его отец, учился в университете штата Западная Виргиния и встретил ее летом того беззаботного студенческого года, когда он работал лесорубом в лесном лагере возле Буковой речки, где она учительствовала в школе.
— Нашу лошадь звали Селим, — рассказывала мать, когда они с маленькой Лоурел шили в бельевой. — Ну-ка повтори: Селим. Я ездила верхом в школу. Семь миль через гору Девятимильную, семь миль обратно домой. А чтобы не скучать по пути, я все время читала вслух стихи. Я их без труда запоминала, душенька, — ответила она на удивленный вопрос дочки. — Моему отцу я доставляла много забот — там, у нас дома, книжки доставать было нелегко.
Лоурел каждое лето — она даже не помнила, с каких пор, — возили «домой». Дом стоял на вершине горы, высокой, как самая высокая крыша на свете. На мягкой зеленой траве прямо под открытым небом стояли качалки. Сидя в качалке, можно было увидеть изгиб реки там, где она обегала подножие холма. Но, только спустившись вниз крутой, извилистой тропой, можно было услышать реку. Она что-то пела — будто целый класс школьников, как зачарованный, хором скандировал стихи перед учителем. Это место на реке называлось Королевской отмелью.
Читать дальше
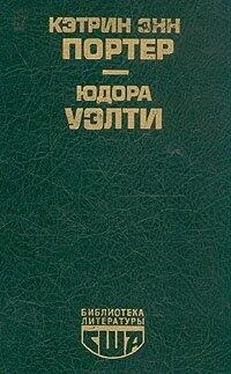

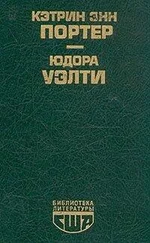


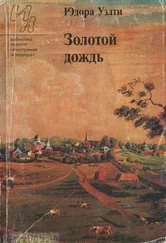
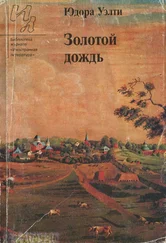
![Дочь 2 - Дочь кн [си]](/books/394766/doch-2-doch-kn-si-thumb.webp)




