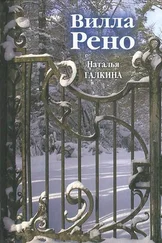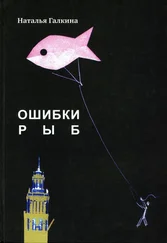— Презабавнейшая дальше последовала любовная сцена, — произнес Шарабан задумчиво, — рассуждения мысленные д’Эона о бедной доверчивой малютке, при этом самого его лихорадит, как никогда ранее, он снимает плащ, бросает его на плащ Сары, занавес падает, он не желает делиться с читателями тем, что и как происходит между ними, он заполняет возникшую лакуну лирическим, что ли, отступлением, во тьме мерцает ее лицо, наконец-то среди множества масок, личин и лярв, среди подделок прозревает он подлинник, рыжи губы твои, точно сургуч, запечатлевший всю ложь моих уст, вынута из волос твоих волшебная заколка (одни камни ее звезднопространственно зелены, другие подобны красной кровяной соли), распалась ты на цветы, внучка колдуна, что за букет в руках моих, ворох луга и сада. А дальше, что удивительней всего, — ты заметил? — после сокровенной любовной сцены их вдруг охватывает веселье новообретенной свободы, они болтают легкомысленнейшим неожиданным образом, сочиняя свой роман! Нет, ты не будешь богатой дочерью, чей отец генерал-аншеф, и я не буду темной лошадкой политических интриг, шпионом, сомнительным юношей в женской юбке, ты бедная сирота, я соблазнитель, хитростью выдавая себя за брата своей травестийной маски, являюсь я в мужском костюме, в тебя влюбляется императрица, она ревнует, да, она ревнует, она ссылает меня в Сибирь, у меня рождается сын… Подожди, у меня есть свой вариант концовки: я пишу, становлюсь известным литератором вроде Мариво или Бомарше, да еще и политиком, хотя нет, я могу отправиться на войну, дослужиться до высокого чина, с онёрами и орденами пасть к ногам отца твоего и просить твоей руки. Мы женимся, я строю тебе дом на горе над озером, где летом лодки в светлой воде, а зимой конькобежцы на льду серебристом… «Мне чудится концовка похуже, я в какой-то момент спрашиваю отца: что если я захочу выйти замуж за неизвестного вам, батюшка, человека? — За кого? — За иностранца. — Он богат? — Нет. — Знатен? — Дворянин средней руки. — Я запру тебя под замок, а его велю убить». Тут пришлось и ему запечатать ее рот долгим поцелуем; обоим им показалось, что шатер над ними прозрачен, а небо полно звезд.
— Ну-у… — молвил Лузин. — Каков пересказ своими словами. Ну, ты даешь. Прозу писать не пробовал? У тебя бы вышло.
— Я подумаю. Хотя грех позорить доброе имя предков фамилией, набранной на обложке.
— А ты под псевдонимом. Можно в китайском духе в честь Сплюшки.
— Тай Вань Даманский?
— Это обидный псевдоним.
— Тогда Тай Мень Девонский.
Сплюшка расплакалась и сказала:
— Думаете, если я китаянка, я должна слушать все это?
— Что я тебе говорил? — сказал Лузин. — Обидные псевдонимы. Обиделась девушка.
— Я не за себя обиделась, — всхлипнула Сплюшка. — А за седьмого дядюшку Ваня. И четвертый дядюшка тоже не Мень, а Минь.
Тут воссиял электрический свет, ослепив, по обыкновению, собеседников.
— Многоуважаемая Лю, — сказал, появляясь на пороге, Кипарский, — вот вы тут болтаете с этими разглагольствующими обормотами, а мой кабинет еще не прибран.
Сплюшка незамедлительно переместилась в его каморку, а Шарабан оскорбился.
— Если я разглагольствующий обормот, могу уволиться, стало быть, более сих мест не посещать.
Надев с лету куртку, схватил он разбухший доисторический портфель свой и вымелся.
— Да что ж это такое?! — вскричал Кипарский. — Лузин, бегите, догоните его, передайте мои извинения!
Шарабан несся к метро, когда Лузин догнал его; после двухминутного диалога сбились они с курса: направились строевым шагом в заветный пивбар «Проходимец».
Глава четырнадцатая
Фавориты, иностранцы, властители дум
— Сегодня, — мрачно сказал Шарабан, — снились мне сербы. Вулич, Вавич, Павич, Чуич, а также юноша с юга, чья фамилия стерлась из памяти моей (но не Милоевич, не Милошевич и не Милич), коего называла Раиса Вдовина, чьи стихи слушали мы на Карадаге, «серб и молод». Проснувшись, подумал я: в «Гиперболоиде инженера Гарина» витает призрак Николы Теслы, вот уж кто был — серб и молод.
— А в «Аэлите» кто витает?
— Образ секретаря-машинистки, увиденный советским графом Т. без очков.
— Не то что без очков, — задумчиво произнес Лузин, — а вообще на манер слепого: на ощупь и осязанием.
— Надо же, — произнес Шарабан, — вот вопреки ожиданиям, в разрез волне — в русской литературе граф Т., в советской граф Т.
— Из графов Толстых, — заявил Лузин, — лучше всех князь.
— А то! — воскликнул, воодушевясь, Шарабан.
Читать дальше