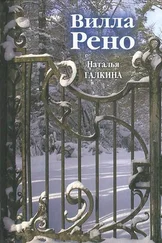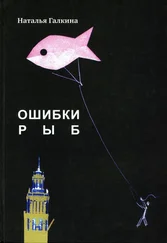— Ведь уже граммофон изобрели… — вздохнул Шарабан, — фонограф… а попугайный голос влюбленной Екатерины Великой не записали, прошляпили. Ну, что за народ такой безбашенный. Но право, какие странные материи выступают катализаторами жизненных событий! Про малороссийское пение я уж тебе говорил; а про карты?
— Три карты? — спросил Лузин с необыкновенным интересом.
— Три у Пушкина. А то две. Елизавета очень боялась, колебалась, комплот с захватом власти и последующим коронованием страшил ее; так придворный медик Арман Лесток (интриговавший в ее пользу вкупе с французским послом Шетарди) принес ей за полночь две нарисованные им своеручно карты, этакий taroc à la russe: на одной карте нарисовал он цесаревну в короне и в мантии, а на другой ее же в монашеском клобуке, стоящей под виселицей. Взглянув на сей выразительный фрагмент колоды Судьбы, Елисавет решилась, согласилась, дворцовый переворот начался. Но карт с тех пор она чуралась, азартные игры запретила. Играли, конечно, но по мелочам, — в памфил да в ломбер.
— Ты картежник? — спросил Лузин.
— Веришь ли, мне глубоко начхать, выиграю я или проиграю, азарта во мне ноль, так я и не играл, хотя, говорят, способности игрока имелись. Почему ты спросил? Во что-то режешься? В преферанс?
— Нет, я не любитель, вот брат — картежник изрядный. Он мне говорил — прабабушка наша по материнской линии родом была из Шклова.
— И что?
— А то, что екатерининский «фаворит на год» Зорич, заядлый игрок, лишившись царской постели, убыл с горя в свое малороссийское имение Шклов. Он карты заказывал, колоды карточные в Шклов обозами шли; австрийские братья Зановичи, дружбаны Казановы, туда же крапленые картишки везли тюками, а с ними — фальшивые деньги. Шклов считался международной карточной столицей. Сам король шулеров московских екатерининской эпохи наведывался, барон Жерамбо, сущая сатана был, ходил в черном с серебряными галунами одеянии, на груди череп вышит, пальцы в перстнях, брови выбриты; стихи латинские писал и ездил на собаках.
— Я сам регулярно езжу на собаках. То в Красницы, то в Дибуны.
— У тебя хаски?
— Хаски у тех, кто в собачьих бегах по заливу участвует. Упряжки, собачья сбруя, все дела, Джек Лондон магаданский отдыхает. Люди собаками электрички наши зелененькие называют, ты не знал? На собаках умеючи можно до Брянска доехать, не то что до Москвы.
Ночью явился к Лузину в сон барон Жерамбо, выложил на ломберный столик колоду карт литературного таро, и под его тяжелым взглядом стал Лузин раскладывать на зеленом сукне маскарадные портреты. Лишь один из них и был известным портретом, подписанным еще не русифицированной фамилией предка художника «Карл Брилло», — молодой Алексей Константинович с ружьем и собакой. Остальные блистали странными нарядами, деталями антикварных натюрмортов, камзолы, восточные халаты, фески, кальяны, причудливые бокалы, штофы. В верхнем ряду пасьянса слева легла карта с изображением потомка омолдаванившегося татарина Антиоха Кантемира, за ним потомка татарского мурзы Багрима Гаврилы Романовича Державина, далее следовали внук шведского выходца Сумароков, волох Херасков, правнук ливонского выходца Фонвизин, историограф и внук Кара-Мурзы Карамзин, немец Озеров, праправнук поляка Гжибовского Грибоедов, внук турчанки и поляка Жуковский. Второй ряд начинался с внука шотландца и татарина Лермонтова, за ним следовал потомок шляхтича Яновского, а из-за плеча карточного Пушкина глядели гоголевские портреты пушкинских предков — немца Радши и африканского негра.
Тут отворилась скрипучая дверь, вошел прапрадед, сурово взглянул на Жерамбо, сказал Лузину:
— Не время гостей принимать, проводи игрока, открой окно, жди, её ночь настала.
Лузин проснулся, пошел пить на кухню. Разбуженный полухозяйский кот с грохотом соскочил со шкафа на пол, вопрошающе смотрел спросонок на пьющего Лузина, на свое пустое блюдце: не хозяин ли слакал?
А Шарабану снился д’Эон, он хорошо рассмотрел во сне его фигурку в женском наряде, манеру ходить, держа спину по-балетному прямо, чуть откинувшись назад, сухую кожу, быстро возникающие на скулах пятна румянца. В танцах шевалье не уставал, не взмокал, они давались ему легко, в нем чувствовалась скрытая энергия, сжатая пружина тайника. Он глядел в дворцовое окно, она глядела, поддельная дамуазель, сколько снега, сверкающего, холодного, балаганного, театрального, что за страна, таких больше нет, что я тут делаю, в этом бабьем царстве снежных королев. Не из-за искрящегося ли снега и сверкающего льда шерамуры местных правительниц шекспировского толка так любят бриллианты? Вот выходит из-за угла однодневка-фаворит, вытягивает руку, в дареном массивном перстне играет алмаз чистой воды, красавчик поигрывает пальцами, блеск зачаровал его, ухмыляется, глаза горят, вот тронутый, д’Эона передергивает, он поводит плечами и на всякий случай закрывает лицо одной из лучших масок доппельмейстера, точной копией своей с легкой усмешкой.
Читать дальше