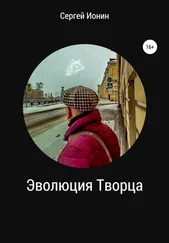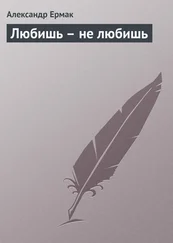— А Катька-то что?
— Ничего. Жила на этой горе до самой смерти. Люди ей хлеб туда носили, она вроде как святой в округе слыла. Ну вот. Рысь у нее жила, так эта рысь, хоть животина и хищная, а за Катериной как простая кошка ходила. Она, Катерина-то, ее в лесу слепым котенком нашла, выкормила, выпоила. Вот так они и жили… Да…
Неожиданно в лесу кто-то охнул и громко, по-детски, надрывно заплакал.
— А-а… — старик отпил глоток чаю. — Пущай плачет, ты внимания не обращай.
— Так ведь вон как разревелся.
— Это он душу зазывает.
— Кто?
— Он. — Дед многозначительно вытаращил глаза, и сразу стало понятно, что этот «он» — важная персона, хоть и не имеет имени.
— А может, это, деда, черт, — сказал Игорек и сам поразился своей мысли, ведь в школе их учили, что ни чертей, ни дьяволов, ни леших, ни богов нет, это все в сказках, а есть в мире только то, что знает человек и не знает. Игорьку стало неловко, и он поправился: — Только я знаю, нам в школе говорили, ни бога, ни чертей нет.
— Есть иль нету, не нам судить. Твоей учительше-то сколь годов?
— Молодая, — махнул рукой Игорек. — Мы ее и не боимся.
— Вот видишь. А моя бабушка, царство ей небесное, сто лет прожила и в бога верила.
— Темная была, — авторитетно определил Игорек.
— Как же темная, — обиделся старик, — если сто лет прожила, за сто лет и чурбак ума наберется. Или вот тоже он… Ишь как плачет! — Он поднял кверху палец и скосил глаза, будто хотел увидеть этого невидимого «его» у себя за плечом. — Ишь! Не зря он так плачет. Вот ты ему поверишь, а он тебя в глухомань и заведи и брось… И дороги домой не сыщешь, сгинешь. Сколь народу так ушло… Все молодые, глупые, кто его повадку не знает. А теперь видишь в чаще огоньки — это души их бродят, обманутые. Налей чайку-то… — неожиданно обыденно и просто закончил дед и подставил кружку.
И Игорек, забыв о намерении больше старику не наливать, черпнул из котелка чаю. Он, конечно же, не верил дедовским россказням, потому что знал — земля вертится и летает, как большое яблоко, вокруг солнца и между звезд, а бога нет и дьявола нет, но все-таки ведь кто-то плачет в чаще и огоньки мигают. Или вон как истошно вопит, небось со злости, что ему не верят, не идут на голос. Не-е, как хотите, а тут что-то есть. Может быть, и земля вертится, и тот в чаще живет.
…Сколько себя помнил, Игорек не любил, даже боялся укладываться спать, ему было жаль времени, в которое могло тоже произойти интересное, и казалось, что больше он не проснется, а если и проснется, все будет по-другому, не так, как прошедший день.
В шалаше было прохладно. А один, наверное дежурный, комар все-таки остался, не убоялся дыму, когда дед головней выкуривал мошкару и прочую нечисть, и зудел этот комар, зудел, мешая Игорьку думать. А поразмыслить было о чем.
Тот в чаще плакать перестал, наступила тишина, лишь изредка заполошно гукал филин: «ху-гу!», «ху-гу!», но мальчик уже знал — это филин — и не боялся. Правда, встретиться с ним взглядом он не хотел бы, но рядом ворочался и постанывал дед, и лежали они в шалаше, сюда филин залететь никак не мог.
— Ох-ох, помру я, Игорюша! — неожиданно громко и болезненно сказал старик. — Помру!
— Что ты, деда? — Игорек не испугался, дед всегда так стонал и по утрам, когда у него ломило поясницу, и перед непогодой.
— Сердце чёй-то схватило. — Старик поправил на внуке одеяло. — А ты спи, спи, может, оно отпустит еще. И ничего не бойся, не бойся.
— Дедушка, я с тобой, что ты… — Губы у Игорька слипались и разговаривать не хотели. Он повернулся на правый бок, как учили еще в детском садике, и увидел себя идущим по лесу, кругом страшные, темно-синие сосны и ели, а между ними огоньки, огоньки, и плачет кто-то горько-горько, плохо ему. И не хочет Игорек идти, а только ноги сами идут, ведь плачет кто-то: беда у кого-то, а в беде надо помогать, и идет, и идет Игорек. Только вдруг плач затих, и огоньки потухли, и все остановилось, стихло, потом зажглись на сосне два глаза и раздался хохот. И понял Игорек, что над ним смеются, над ним, что облапошил его этот неведомый из чащи, а он, Игорек, уже и не Игорек вовсе, а дедушка, и сел на пенек отдохнуть дедушка, и говорит, обращаясь к зарослям: «Устал, ты не знаешь, как я устал, потому знал, что ты врун, но шел за тобой, думал, может, старика ты не будешь обманывать, думал, узнаю, а вдруг правда кто-то плачет, плохо кому-то. Ан нет. На нет и суда нет. Теперь я твой, только внука моего пока не трожь».
И в это время из темноты вышла Катька-Катерина с рысью. «Михеич, помнишь меня?» — «Помню, Катерина». — «Хочешь, рысь моя тебя выведет отсюда?» — «Нет». — «Почему?» — «Долго сказывать. Я ведь сам сюда пришел, в эту чащобу, потому что верил всю жизнь, и раньше все хотел пойти, да люди отговаривали, а теперь уж у меня годы не те, чтоб взапятки вертаться. Не те годы, страху нету». — «Ну, дело твое», — сказала Катька и исчезла, а за нею и рысь ушла, только два раза оглянулась и посветила на деда любопытными и хитрыми зелеными глазами.
Читать дальше
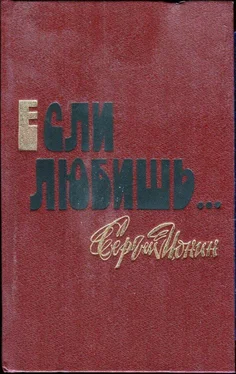



![Сергей Ионин - Русская артиллерия [От Московской Руси до наших дней]](/books/427765/sergej-ionin-russkaya-artilleriya-ot-moskovskoj-rus-thumb.webp)