Ранним вечером, стоя в дверях, жена позвала:
— Никита…
Художник, работавший за столом, повернул голову и увидел Ивана Григорьевича Терентьева.
Никита Павлович бросился к гостю:
— Ну, Иван Григорьевич, рассказывайте! Как? Что? Ах, если бы сейчас по рюмке вина…
Жена закрыла дверь, оставила их вдвоем.
Терентьев тягостно молчал, не садился.
— Иван Григорьевич! Садитесь, рассказывайте! Были у Ленина?
— Был…
Терентьев тяжело опустился в кресло.
— Что рассказывать, Никита Павлович? Какая война идет! А мы с Петей Донцовым больше думали о славе своего района… А на что слава, если республики не останется?
Терентьев стал рассказывать о беседе с Владимиром Ильичем, о том, как они провалились с Петей Донцовым в тартарары, о решении Ленина. О том, что каждая винтовка, каждый пистолет должны стрелять во врага…
Терентьев говорил, а художник все больше мрачнел.
— Жаль, — сказал он наконец, думая о гербе. — Очень жаль…
— Что жаль? — спросил Терентьев.
Художник не ответил, а озабоченный военком не стал переспрашивать и лишь махнул рукой. Никита Павлович, хотя и ввел в рисунок герба меч, в глубине души все ждал какого-то чуда…
— Значит, меч? — сделал вывод художник.
Он взял ватман и, зная, что делать придется все заново, черным жирным карандашом набросал через весь герб большой, остро отточенный меч, как бы перечеркивающий и солнце, и земной шар с серпом и молотом на нем.
— Вот так… Переделаю и отдам…
Вопрос о государственной печати и гербе уже не раз обсуждался Советским правительством, и проекту художника, рисунку, который он передал на рассмотрение, предстояли еще многие испытания. Но Беретовский не знал об этом…
Никита Павлович сидел в одной из комнат Совнаркома, и ему не хотелось сразу уходить отсюда. Он завязал шнурки папки, оклеенной холстом, завязал все три, хотя обычно у него хватало терпения на два, а то и на один. В папке — много рисунков, эскизов герба, но теперь она кажется ему опустевшей.
Комната проходная. Вот появляется и исчезает военный в выгоревшей гимнастерке и обмотках на длинных худых ногах… Сосредоточенный, проходит служащий с портфелем… Женщина в пенсне несет какую-то бумагу… Да, Верстовскому не хочется уходить отсюда. Теперь он тоже причастен к этому миру, к делу, которым заняты здесь все…
Вот, видит Верстовский, по комнате в сопровождении молодой женщины, от одной двери к другой, стремительно проходит человек. Он рассеянно слушает, что говорит ему женщина, и кивает. Но это, пожалуй, не рассеянность. Нет! Слушая, он думает и о другом, более важном.
— Пятница… Очередная пятница… Выступление на заводе…
— Конечно… Конечно… Обязательно буду…
Человек этот кажется Верстовскому знакомым. Художник всматривается.
«Ленин? Неужели…»
Теперь он видит его сначала сбоку, а потом — со спины. Художнику хорошо известны малочисленные в то время портреты Ленина, но признать вождя в этом человеке художник никак не решается. И дело не только в старой тройке. Какое осунувшееся, пожалуй, даже изможденное лицо! Какого оно серого цвета! И как выразителен на нем блеск глаз! Живописцы хорошо знают: чем спокойнее, нейтральнее фон, тем ярче детали в цвете.
От сознания, что это и есть Ленин, художнику становится тревожно.
За Лениным и его спутницей уже закрылась дверь, а Никита Павлович все еще видит блеск глаз, выражение серого, осунувшегося лица человека, который слушает, воспринимает, не упуская деталей, но думает о другом, более значительном.
Никита Павлович слышит, как кто-то из служащих Совнаркома говорит, все еще смотря на дверь, за которой скрылся Ленин:
— Ночей не спит…
Он представляет себе Ленина дома. Лежит, не может уснуть. Думает — все ли им сделано? Что можно сделать еще для спасения революции?
И все, чему Никита Павлович только что радовался, все, что давало удовлетворенное честолюбие, сознание исполненного долга, наслаждение плодом творческого труда, — все ушло куда-то на второй план.
«Каково сейчас Ленину…»
Сунув папку под мышку, Никита Павлович побрел домой. На площадях и улицах Кремля навалены бревна, ящики от патронов, ворота, какие-то повозки. Под ногами художника — осколки кирпича, обрывки бумаг…
Сейчас он даже не думал о том, сколько ему придется ждать решения.
Но ждал он недолго.
Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, пропустил художника вперед и привычно закрыл за собою дверь. В кабинете кроме Ленина Никита Павлович увидел Дзержинского, Свердлова, еще нескольких человек, как будто знакомых ему, но которых сейчас и сразу он от волнения не в состоянии был как следует рассмотреть.
Читать дальше
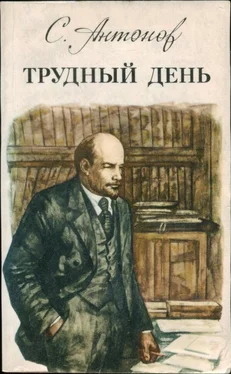





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)


