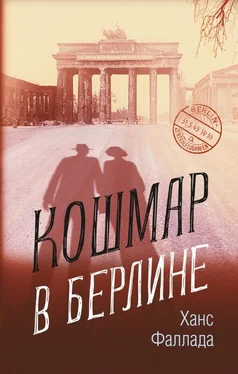Долль поднимает руку, приветствуя ее. Эта ваза — единственный предмет роскоши, оставшийся у них после крушения мира. Последний осколок их прежнего состояния, она непостижимым образом уцелела — возможно, потому, что им просто не хватило предприимчивости и энергии отнести ее в одну из антикварных лавок на западе Берлина. Все остальное, что было им дорого — не только ему, но и Альме, — давно исчезло, и осталась лишь эта пещера, не дом, не очаг, а убежище, где можно есть и пить, но нельзя жить.
А ведь это место могло стать им домом. После памятного разговора с Гранцовом, когда им так неожиданно и так щедро помогли, они из полуразоренной комнаты, на окнах которой вечно шуршала пленка, перебрались в этот дом, покинув и нечистоплотную Шульциху, и актрисульку Гвенду, и врачей, у которых они доставали морфий. У Долля снова появилась работа, отпала надобность думать о том, чем питаться и как обогреваться, он связался с издателем Мертенсом, стал писать для газет, работать над романом… В этот период они с воодушевлением обустраивали свое новое жилище. И дом тогда выглядел по-человечески…
Как же так вышло: почему все обернулось вспять, почему они тут же потеряли то, что едва-едва обрели? Сидя за письменным столом в этой пыльной норе, Долль задумчиво смотрит на улицу, где пляшут солнечные блики…
Быть может, первым ударом стала Альмина поездка в городишко: она хотела перевезти в Берлин множество нужных вещей, но обнаружила, что все их добро разграбили и растащили, обобрав их до нитки. О, местные завистники сполна отомстили ненавистному бургомистру: лишили его последних носков, последних ботинок, не оставили ни рубашки, ни костюма, ни платья для жены — не позарились только на самые старые, самые истрепанные обноски. Он вновь убедился, на этот раз на собственной шкуре, как одичал и опустился немецкий народ: они считали, что имеют полное право воровать и мародерствовать, — ведь война так много у них отняла! Как могут, так и выживают — кто посмеет им запретить?! На смену лозунгу «Общее превыше частного», который так и не воплотился в жизнь, пришел другой: «Помоги себе сам — и ничем не гнушайся!»
А уж тем более если речь об этом ненавистном бывшем бургомистре! Они расквитались с ним за слова, которые он произнес некогда с балкона комендатуры, желая свести счеты с местными нацистами. Они не забыли ни допросов, ни обысков, ни конфискаций, которые он устраивал, вменили ему в вину каждую просьбу, на которую он ответил отказом!
Что делать — Долли старались утешить друг друга. Они говорили: «А если бы на наш дом упала бомба?! Тогда бы у нас вообще ничего не осталось! А так — есть все-таки мебель, которую соседи не успели пустить на растопку, кое-какие ковры — а книги вообще почти не тронули!»
Пережив потерю, они принялись обустраивать дом, он снова сел за работу — но осталась какая-то заноза в душе. Не было прежнего подъема, прежнего огня. Старею, думалось Доллю. Не то чтобы он горевал по разворованному добру: все, что куплено за деньги, можно купить снова. И не то чтобы он так уж огорчался, что у него остались лишь две пары старых носков, штопаных-перештопаных, и один-единственный костюм, который совсем уж поизносился.
Нет, бытовая сторона дела его не очень удручала. Куда печальнее было сознавать, что, как и в минувшие двенадцать лет, зло торжествует, а мораль обесценивается на глазах. Неужели у этого народа нет никакого шанса зажить когда-нибудь по совести? У Долля часто возникало чувство, что под гнетом лишений соотечественники стали еще более рьяными нацистами, чем прежде. Как часто он слышал: «А вот при фюрере того-то и того-то было в достатке!» Даже многим из тех, кто раньше нацистов не поддерживал, тирания Гитлера стала казаться благословенным, сытым временем. Ужасы войны с ночными бомбежками, отправленные на убой мужья и сыновья, издевательства над невинными — все это немцы уже забыли. Помнили только, что раньше им доставалось немножко больше хлеба и мяса. Не верилось, что они когда-нибудь одумаются, и иногда становилось среди них совсем невмоготу; и впервые Долль всерьез начал подумывать — теперь, после войны! — об эмиграции.
Но все же этих причин было недостаточно, чтобы снова впасть в глубокую апатию, разрушить едва построенное и разбазарить с трудом убереженное. Может быть, тут внесла свою лепту и работа — работа, которую он выполнял скорее из чувства долга, чем из внутренней потребности, работа без вдохновения, без страсти, без любви, работа, чуждая его сердцу. Он всегда любил свою работу, считал ее смыслом жизни. А теперь равнодушно тянул лямку, и нередко на него находило отчаяние: что, если он никогда больше не сможет работать как прежде, что, если вдохновение покинуло его навсегда?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу