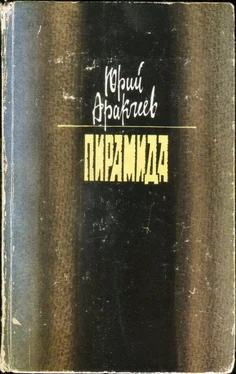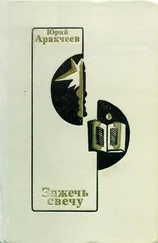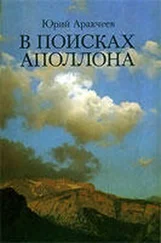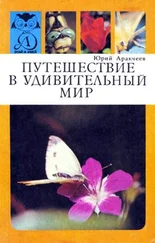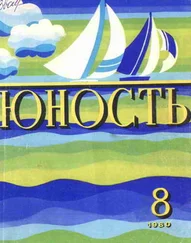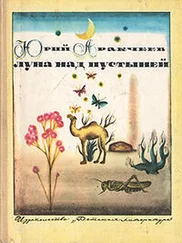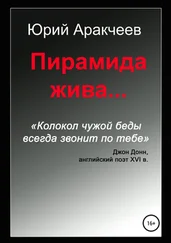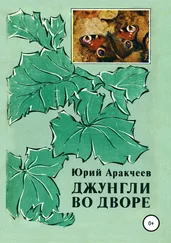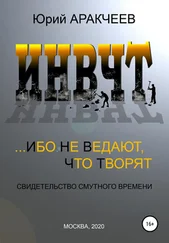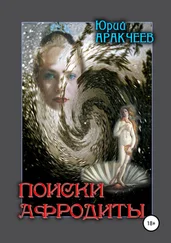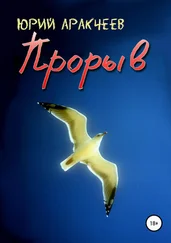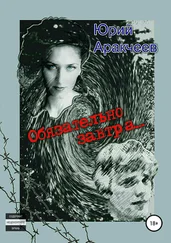Не знаю, понятно ли удается мне излагать свои мысли. Хочу добавить, что здесь есть некоторая связь с теорией относительности Эйнштейна. Он впервые ввел в физике важную роль наблюдателя, влияющего на результаты наблюдений.
Был и еще важный момент — национальный. Румер посоветовал как можно меньше напирать на него, потому что произошло-то все в республике, и арестовали они не своего, а — русского. Нет ли здесь национализма-шовинизма? Но мне казалось абсурдным и сейчас кажется таким же это опасение. Да, арестовали русского, да, в республике, но Ахатов, к примеру, был вовсе не туркмен, а казах, Бойченко — украинец. Милосердова вообще русская, сибирячка… Положительный же Алланазаров — туркмен, а уж тем более положительный, один из героев, можно сказать, Аллаков — тоже туркмен чистокровный. При чем же тут национальности?
Кстати, Джапаров-то хотел послать в расход на другом процессе и одного своего, туркмена… Так что наоборот, как раз очень даже показательно и наглядно с национальностями тут вышло: все перепуталось! Баринов — русский, Светлана — русская, Румер — еврей, Беднорц — поляк, Каспаров — армянин, Касиев — армянин тоже… Прокурор Виктор Петрович — русский, увы, Ичилов — татарин (но татарин и Салахутдинов…), Анатолий Семенов — русский… Пестрое соцветие — и никакой связи между нравственным и национальным. И в этом тоже великий смысл происшедшей истории! Не между нациями проходит граница, не между странами и людьми. Внутри каждого водораздел заветный.
И еще один момент важен был для меня: размер сочинения. Газета — не книга, не журнал, а нужно было писать именно для газеты. Румер пообещал страниц пятьдесят на машинке «пробить» — на три номера. Господи, пятьдесят страниц для такого-то богатого материала!
— Потом расширишь для журнала, — сказал Румер.
«Расширишь»! Это живое-то расширишь? Ведь если произведение художественное, то живое…
Плохо ли, хорошо ли, я — головой в воду! — начал:
«Шел второй час ночи 26 апреля 1970 года. Милиционеры линейного отделения милиции железнодорожной станции Мары совершали очередной обход…»
Вторая фраза получилась довольно корявой, но она была по крайней мере точной. Главное в начале — не критиковать самого себя, не оглядываться на каждом шагу.
Через несколько дней от Румера я узнал, что журнал «Новый мир» опубликовал в 12-м номере за прошлый год повесть, которая по теме очень похожа на будущую мою.
— Это и хорошо, и плохо, — сказал Румер. — Хорошо потому, что эта вещь как бы прокладывает дорогу твоей, плохо же то, что ты теперь не будешь первым.
Удивительны совпадения в нашей жизни! — подумал я. Удивительным было и это. Идея, выходит, носится в воздухе…
Однако, прочитав повесть, я не нашел в ней большого сходства с тем, что собирался написать я.
Повесть называлась «Перед трудным выбором», автор — неизвестный до того писатель. Речь в ней шла о том, как главный герой, простой, в общем-то, человек, тихо живший со своей женой в домике на окраине Москвы, помог вызволить из тюрьмы невинного человека, осужденного за изнасилование, которого тот не совершал. Медленно велось повествование от первого лица — как однажды в зимний метельный вечер нагрянула к ним в домик полузнакомая женщина и попросила не за сына, не за родственника — за знакомого своей знакомой… Это не женщина, это судьба стукнула в двери героя повествования, и, как ни колебался он, однако победило в нем совестливое начало, и почувствовал он себя защитником. И принялся изучать письма заключенного, а потом направился в Верховный суд и поехал в сибирский поселок, где было совершено преступление, и изучал дело… И вызволил он наконец из тюрьмы невинного человека.
Однако сходство было чисто поверхностное. Многое мне, конечно, поправилось в этой повести — как может не понравиться святое праведничество, проявившееся в наше нелегкое время, да еще и увенчавшееся успехом! — по кое-что и не понравилось, потому что, при всем положительном, было в этой повести, как мне показалось, и то, что помешало ей стать по-настоящему достойным произведением. Я почувствовал этакую неистребимую уничижительность не столько даже героя, сколько, очевидно, самого автора перед властями. Несвободным казался мне и автор, и главный его герой, от лица которого велось повествование, а оттого благородные действия обоих были все же, на мой взгляд, какими-то ущербными. Да, герой восстал против несправедливости, допущенной государственным следователем, но только против частной, случайной несправедливости. У него и в мыслях, кажется, не было того, что несправедливость эта глубоко неслучайна, что она — следствие чего-то большего, чем недобросовестный характер следователя… Несовершенство государственной судебной машины хотя и прочитывалось в каких-то деталях, но помимо воли автора. Автор же, казалось, просто не смел идти в своих мыслях дальше. Именно не смел. Ему это, похоже, и в голову не приходило. А потому и восстание против несправедливости было здесь как бы вовсе и не восстанием, а просто более ревностным, чем у официального следователя, выполнением какого-то сомнительного долга. Долга перед машиной, а не перед людьми.
Читать дальше