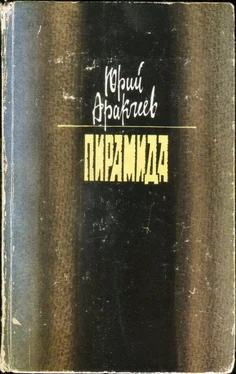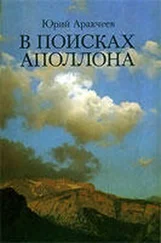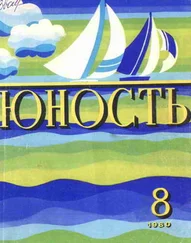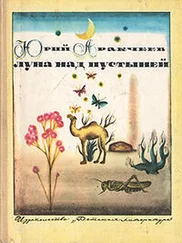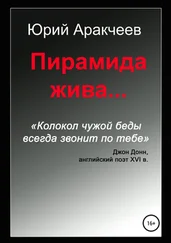Ну, в общем, чем больше я размышлял, чем дальше увлекался, тем труднее было взяться за конкретную повесть. Вот, к примеру, я Клименкина как-то все вниманием обхожу, хотя он и есть главный-то пострадавший (если не считать, правда, Семенова Анатолия). А ведь это же представить только, что пришлось ему, Клименкину, пережить! Два с лишним месяца в камере смертников, в ожидании расстрела за преступление, которого не совершал. Отказ от прошения о помиловании… Да, третья судимость, да, в каком-то смысле уже привык (если можно к тюрьме привыкнуть), сник — на воле пил в последнее время… — но ведь это легко так сказать, а вы представьте-ка себя на его месте. Двадцать лет от роду, только что жизнь начал. Ведь другой-то жизни не будет. Неудачно, ох, как неудачно начал, а тут еще и приговор к расстрелу. Ничего себе звоночек! Ничего себе предупреждение! Конечно, мы можем рассуждать на тему, что, мол, жизнь ученого или художника дороже не только обществу, но и ему самому, потому что он явственнее представляет себе ценность ее, яркость и насыщенность каждого дня — но ведь это будет только лишь рассуждение. Где критерий ценности жизни каждого? Где шкала отсчета?
Да, и фигура Клименкина вырастает в полный свой рост и тоже становится типом: невинная жертва! Таких в истории нашей было столько, что не сочтешь. Многие ли ограждены? Ау, бойченки, джапаровы, милосердовы! Ограждены ли вы-то сами? Можете ли вы сами-то быть уверены? А ведь сами, сами вы и поддерживаете атмосферу эту, когда ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ…
Нет-нет, фантазии давать волю тоже особенно-то нельзя. Тут далеко зайти можно, не выпутаешься. А мне-то конкретную повесть надо. И скорее!
И вот еще что существенно. Начиная большую работу, пишущий никак не может совсем отстраниться от жизни вокруг него. Не может и не должен, пожалуй. Конечно, прошлое — это прошлое, оно утекло, слепок его остался лишь в памяти людей, и если писатель задался целью восстановить его, то, казалось бы, только оно для него сейчас и имеет значение, только то, что уже было. А то, что происходит сейчас, это уже как будто другое, оно не помогает, а скорей отвлекает от главной задачи.
Но это только на первый, поверхностный взгляд. А на самом деле?
Начнем с того хотя бы, что прошлое так же, в сущности, многозначно и неопределенно, как и настоящее. Сколько людей — столько мнений, никогда не можешь знать всего, подход любого человека всегда субъективен, и учесть все привходящие и исходящие моменты просто невозможно. К примеру: «Дело Клименкина», изложенное самим Клименкиным, будет наверняка сильно отличаться от того же самого дела, изложенного Бойченко, Милосердовой, Ичиловым или Светланой. Даже трактовки посторонних наблюдателей — таких, как журналисты Измирский, Петрова, Вознесенский отличаются — что я уже понял! — одна от другой. Что же говорить обо мне, который не был ни на одном из процессов, не со всеми участниками встречался, не видел многих в лицо.
Возникает нравственный, так сказать, вопрос: а могу ли я в таком случае об этом деле писать? Имею ли право? Имею ли право оценивать и судить? Оценивать — да, несомненно. Каждый имеет право оценивать со своей точки зрения, почему бы и нет. Но вот судить… Впрочем, и оценивать тоже непросто. Дело в том, что не количество сведений и известных фактов играет главную роль — всех сведений, всех фактов не знает никто… Да мне-то и не важна была особенно бытовая конкретность, буквальность. Важна мне была суть, характеры общие — типы, а также присущие нашей жизни закономерности, известные мне по другим обстоятельствам, другим событиям, но проявившиеся и здесь. Ведь бытовая конкретность — это случайность, она может быть той или иной, то есть Клименкин, к примеру, мог бы быть блондином или брюнетом, высоким или малорослым — это не имеет значения. Имеет значение его заикание — но только потому, что оно, по сложившимся обстоятельствам, стало уликой в деле. Скажу больше: бытовая конкретность, буквальность иногда даже очень вредит писателю, сковывает его свободу, мешает проявить главное, суть. Здесь тоже иллюзорность внешнего может сослужить плохую услугу…
Но, с другой стороны, на пишущего влияет, наоборот, все. Каждый документ настраивает его так или иначе, каждая встреча. Детали, акцепты, художественная плоть будущего произведения зависят даже от моментов, как будто бы не относящихся непосредственно к тому, о чем человек пишет. Дело в том, что произведение его будет жить сразу в трех измерениях — прошедшем (которое приобретает, таким образом, конкретность), настоящем (ибо, читая, люди переживают это так, словно все происходит сейчас) и будущем (ведь так или иначе прочитанное всегда влияет на будущие поступки людей). Таким образом, в вечно изменчивой, движущейся непрестанно жизни даже прошлое не остается постоянным, оно меняется в представлении людей в зависимости от настоящего. И только одно может сделать его конкретным и определенным: художественное произведение. Ибо оно есть материализованная, а потому уже принявшая окончательную форму действительность. И пишущий знает это. И, «материализуя прошлое», не может и не должен отрешиться ни от настоящего, ни от будущего. Уйти в «башню из слоновой кости», пытаясь тем самым остаться наедине с прошлым и только с ним, всегда казалось для меня неподходящим. Прошлое интересует меня не само по себе, а только с точки зрения сегодняшней, а потому как же я могу хоть на малое время отойти от действительности? Верной ли будет моя «материализация», не нарушу ли я своим уходом от настоящего истинный ход времен?
Читать дальше