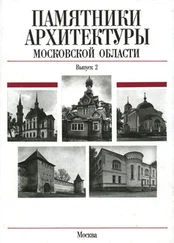— Что, покидаешь нас, Иордэкел, сынок?
Иордэкел Пэун натягивал серые нитяные перчатки. Он уже встал и, готовясь уходить, оправлял соломенную шляпу, давно вышедшую из моды, но зато вымытую госпожой Ветурией в щавелевой кислоте.
— У меня заседание комиссии, Григоре. Заседание…
— Знаю, знаю! Твое время вышло. Ритуал соблюден… Возвращайся к своим обязанностям да помири Эмила Саву с расчудесной предзакатной госпожой Калиопой, а то ведь между армией и гражданскими властями разгорается конфликт.
— Неужели! А я и не слыхал.
— Иди вперед, не ведая сомнений! Тебе слышать не обязательно. Что ты ни сделаешь, все будет хорошо.
Иордэкел Пэун, не расслышавший и половины слов, улыбнулся застенчивой, неуверенной улыбкой глухого. Пригладив под шляпой белые волоски, тонкие и шелковистые, словно шерсть кошки, он церемонно поклонился и, мелко семеня, отправился улаживать конфликт между господином префектом Эмилом Савой и госпожой полковницей Валивлахидис, предзакатной красавицей здешних краев.
Некоторое время за столом оставались только два непримиримых недруга.
Оба молчали.
Время от времени Григоре Панцыру вынимал трубку изо рта, поглядывая через плечо на старика, словно на мерзкого червя, и с отвращением сплевывал сквозь зубы.
Но Пантелимона Таку словно тайным колдовством приковали к стулу. Подняться и уйти было выше его сил. Так бывало всегда. Ему казалось, что Григоре Панцыру владеет секретом здоровья и вечной жизни, что его не иначе как освободили от той дани, которую платят все смертные. И что, находясь с ним рядом, вдыхая окружающий его воздух, он словно бы обретает иммунитет, присваивает и себе толику этого эликсира.
Он бы много отдал. Невообразимо много. Но платить было некуда.
Слова Григоре Панцыру, его брезгливый взгляд и хриплый смех резали Таку как ножом по сердцу — сердцу высохшей мумии. Он знал, что ночью все вновь повторится во сне, когда он, терзаемый ненавистными видениями, будет метаться на своей узкой железной кровати под солдатским одеялом.
— Не хочешь ли еще рюмочку коньяка, Григоре? — попробовал он подлизаться, поборов свою скупость.
Григоре Панцыру вскинул кустистые брови, издевательски изобразив крайнюю степень изумления.
— Ну и ну! С каких это пор тебе пришла охота сорить деньгами? Не говорил ли я, что настал год твоей смерти!
И тут же добавил:
— Впрочем, я знаю, почему ты это сделал. Ты уверен, что я откажусь, потому что ни от кого ничего не принимаю. Я допущу лишь одно исключение. На твоих поминках! Но смотри, чтобы в твоем погребе нашлась бутылочка коньяку от тех еще времен, когда на плечах у тебя была голова, а не эта засохшая тыква. И пусть ее поднесут мне твои наследники в знак признательности за то, что я на много дней укоротил тебе жизнь. И я осушу ее, Пантелимоникэ, сынок, до самого донышка, сидя верхом на твоем надгробном камне. Я словно бы вижу себя, как я пью и при каждом глотке спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь, дорогой Таку? Буль-буль! Тебе ниоткуда не дует, Пантелимоне, сынок? Буль-буль!» Надеюсь это произойдет очень скоро. Сколько можно заставлять меня ждать!.. А теперь катись отсюда, рядом с тобой мне и радость не в радость.
Пантелимон Таку покорно пересел за другой стол.
В кафе, весело болтая, забежали двое юношей и девушка в теннисных костюмах с ракетками под мышкой. Не присаживаясь, проглотили несколько карамелек, печенье, выпили воды из запотевших стаканов и помчались дальше, в сторону спортивной площадки, к городскому парку, что напротив вокзала.
Они шагали легко и упруго, ритмично покачиваясь на мягких каучуковых подошвах. Их голоса заглушили уличный шум. А легкие белые костюмы, казалось, вобрали все сиянье июльского утра.
Пантелимон Таку глядел им вслед унылым, потухшим взглядом.
Глаза Григоре Панцыру светились радостью.
И, к вящему его удовольствию, в этот самый момент перед окнами, резко затормозив на полном ходу всеми четырьмя колесами, остановился автомобиль Октава Диамандеску, — для всего города — Тави, для синьора Альберто — вермут-сифон.
Улыбаясь своим мыслям, Тави заглушил мотор. Оперся рукою о руль и, перекинув ноги через дверцу, соскочил прямо на тротуар. И опять улыбнулся, на этот раз радуясь удачному прыжку.
Потом он улыбнулся солнцу, автомобилю с помятыми крыльями, масляному пятну на рукаве куртки из пепельного фреско, улыбнулся новехоньким перчаткам, лопнувшим по шву. Словно подав щедрую милостыню, поприветствовал столик, где сидел Пантелимон Таку, и широко распахнул руки навстречу Григоре Панцыру.
Читать дальше
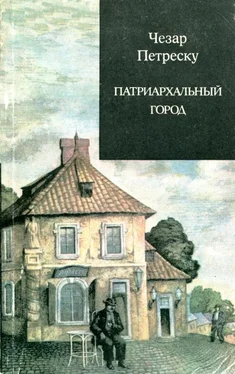


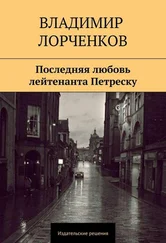





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)