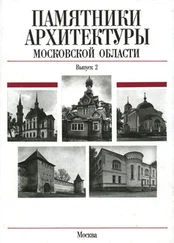В этот предрассветный час, в болтающихся подтяжках, с волосатой, как у шимпанзе, грудью, выглядывающей из-под расстегнутого ворота рубашки, он сидит перед классной доской, прибитой к стене пятьдесят лет назад, и с головокружительной скоростью пишет числа, формулы и кабалистические знаки, пока не испишет всего куска мела, который нашарил в кармане, среди карандашных огрызков, спичечных коробков, пакетов с табачной пылью и трубок, присланных в подарок бывшими учениками. Потом стирает губкой написанное. Отыскивает грязную шляпу, нахлобучивает ее на разгоряченный лоб и лысый череп, где мирно уживаются все науки мира, и отправляется в путь, позабыв иной раз застегнуть пуговицы. И стоит ему только выйти на улицу, как его сразу же целиком поглощает ненасытная жизнь, и прежде всего жизнь простых и незаметных людей. Она влечет его и приносит отраду.
— Мое почтение, господин Григоре!
— Привет, Таке, доброго здоровья!
Прохожий, что поздоровался с ним, едва держится на ногах. Он пьян с утра, а может, не протрезвел еще с ночи. Зовут его Таке-фонарщик, он и в самом деле зажигает на окраинах фонари там, куда не дотянули еще электрических проводов. Он жалкий пьянчужка. Но Григоре Панцыру отвечает ему с симпатией, по-отечески снисходительно, и оборачивается ему вслед, глядя, как тот, шатаясь, бредет по самой середине улицы. Григоре Панцыру принимает и прощает все: слабости, страсти, грехи… Он ненавидит только мертвечину, высушенную и набальзамированную в нарушение законов природы, — вроде Пантелимона Таку, что сидит напротив.
— Доброе утро, господин Григоре! Я почал вчера бочку Хуши. Винцо, кажется, доброе.
— Браво, Гримберг! Зайду как-нибудь, погляжу, с каким товаром тебя можно поздравить!
— Прошу, господин Григоре! Жду вас непременно.
Долго ждать Мойсэ Гримбергу не придется. Не долго ждать и Беркушу и прочим корчмарям, будь то в центре города или на окраине. До всех дойдет очередь, не сегодня, так завтра. Знает это и Григоре Панцыру.
Он никогда не морил постом сидящего в нем зверя. Давал полную волю его плотским страстям. И в благодарность плоть сберегла ему нетронутой остроту мысли, назло годам и дряхлости, не пощадившим никого из тех, кто его окружал. Все, кто осуждали его беспутства и оплакивали его впустую растраченный талант, давно сгнили в земле. Они ставили свое благоразумие в пример другим, а в итоге — уже самые имена их забыты. Вечно воздерживались, лишая себя всех радостей и удовольствий, а когда пытались воспарить на немощных культяпках своих крыл, то тут же падали, трепыхаясь в пыли, или ползали всю жизнь, как черви. А конец был для всех один. Но и на смертном одре, и в кресле паралитика, ожидая смерти, ход которой известен заранее, как известны стадии химического процесса, наблюдаемого в лаборатории, они все еще следили за показаниями термометра и данными анализов.
— Доброго здоровья, господин Григоре! Хорошего настроения!
— С повышением тебя, Тэнэсеску! Поздравляю! Когда отбываешь?
— Во вторник, господин Григоре!
— Браво! Поздравляю!
Григоре Панцыру ткнул вверх зажатой в волосатой руке трубкой, словно отмечая очередную ступеньку на незримой шкале повышений. Доктор Вылку Тэнэсеску, высунувшись из пролетки, поблагодарил за поздравление, помахав рукой в перчатке. Неделю назад вышел приказ о назначении его на пост заведующего большой больницей в Яссах. Он учился у господина Григоре; и Григоре Панцыру вспомнил, как тот сидел на третьей парте слева, у окна, — вялый, прыщавый, наголо остриженный мальчик с длинными, торчащими из рукавов руками. Теперь это многообещающий хирург, известный и по ту сторону Кэлимана. Сюрприз из сотни других сюрпризов. Григоре Панцыру видел, как поочередно одни люди сменяли других. Одни вот они — перед глазами. За другими, добившимися успеха, он следил издалека.
С той минуты, когда малыши в коротких штанишках, держась за руки матерей робко входят первый раз в двери школы, и до поры, когда у них появляется лысина и необходимость опираться при ходьбе на палку, — весь жизненный круговорот этих людей, с его неожиданными метаморфозами через каждые два, три или четыре десятилетия, — это тоже спектакль, который волнует его не меньше, чем круговорот прохожих на улице.
Он выбил пепел о край стола и прочистил трубку перочинным ножом.
Ядовитая вонь дешевого табака заглушила запах карболки, исходивший от пиджака Пантелимона Таку. Григоре Панцыру снова набил трубку. В поисках спичек сунул руку в карман, набитый бечевками, огрызками карандашей, засаленными записными книжками и обломками мела; найдя коробок, удовлетворенно гмыкнул, закурил и принялся попыхивать трубкой с выражением полнейшего блаженства.
Читать дальше
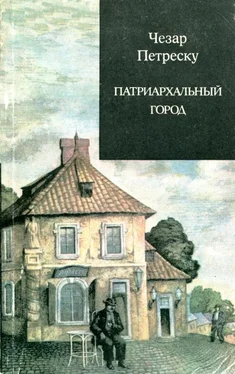


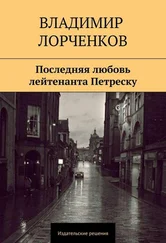





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)