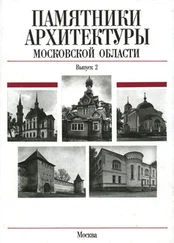Но он не произносил ни слова.
Не жаловался. Никого не упрекал, ни с кого не спрашивал отчета. Сидел на краешке кровати и ждал. В один и тот же миг он проходил сквозь двадцать стен, входил в двадцать домов, чтоб занять свое место на краю кровати и ждать — как укор совести с того света.
Так проходил он сквозь дверь Тудора Стоенеску-Стояна и, неподвижно застыв у него в ногах, присматривал за его сном. Так являлся Лисавете, которая просыпалась со стоном, проклиная его, урода! Будь, земля ему камнем на его выпяченной груди, поскорее бы сгнило его сердце! Так входил в спальню госпожи Клеманс Благу, и Анс хныкала, корчась в постели: «Встань, Вонючка, прогони его! Чего лежишь?» Так проходил он сквозь дверь Лауренции Янкович. Теперь ночи ее стали еще страшнее. Не стучался больше у ворот ее Ионикэ, некому было крикнуть: «Погоди, Ионикэ, не уходи. Постой, не уходи!..» Сон этот как отрезало. Он пропал. Теперь к ней сквозь запертую дверь входил калека в промокшей одежде, каким она его видела, — вытащенный из воды утопленник. Она не знала, как он появлялся, как входил. Не знала, как не знал и никто из остальных. Как и они, вдруг просыпалась и видела — он сидел на краешке кровати и глядел в землю, сложив на коленях руки, с намокшего горба катилась вода, образуя у его ног черную лужу — такую черную, какой может быть только вода в другой, адской жизни, — цвета дегтя.
Проникал Пику Хартулар и сквозь дверь Адины Бугуш, в комнату с мебелью из никеля и стекла.
Ни один запор не мог ему помешать. Никто и ничто не могло его остановить. Лисавету он пригвождал к постели, потому что бывал у нее одновременно с тем, как появлялся во сие у постелей других людей городка: Эмила Савы и Тудора Стоенеску-Стояна, госпожи Клеманс Благу и отца Мырзы, Лауренции Янкович и множества пескарей, из тех, кого созывал полковник Цыбикэ Артино в своей поименной перекличке: Пескареску, Пескаревича, Пескаряну, Пескаревского. Но здесь, у постели Адины Бугуш, он оставался дольше, до самого рассвета, здесь печальнее глядел в землю, сложив на коленях длинные руки. Здесь ему много чего хотелось сказать, чего не сказал при жизни и не осмеливался сказать даже теперь. Но он довольствовался и тем, что приходил, молчал и ждал. Никто не мог его прогнать! Сквозь двери он входил и выходил, словно дым в открытое окно.
Круги под глазами Адины Бугуш сделались еще темнее.
— Это стало просто невозможным! — воскликнул господин префект Эмил Сава, в сильном раздражении позвякивая ключами. — Этот каналья и мертвый не унимается!
Тудор Стоенеску-Стоян, пожевав слова и ощущая горечь во рту, признался:
— Со мной происходит то же самое. Вот уже неделя, как он снится мне каждую ночь. Приходит, усаживается, и ничем его не выгонишь. Проснусь — исчезает! Усну — он на своем месте! Это что-то невообразимое.
Оба помолчали. Теперь они ничего не могли с ним поделать. Но господин Эмил Сава ни за что на свете не мог смириться с унизительным признанием своего бессилия. Мертвеца они ненавидели еще более люто, чем живого, как если бы он и в самом деле, нарочно и по собственной воле, возвращался с того света, чтобы посмеяться над ними, безоружными, и с мрачным удовлетворением продолжить свою миссию за столиком пескарей.
Он изобрел пытку, которой не мог придумать при жизни. Только он был способен на подобную извращенную месть — мучать сограждан из могилы.
Свои чувства господин префект Эмил Сава выражал четко.
— Людей этого сорта нужно уничтожать! — исступленно твердил он, тяжелым шагом расхаживая по комнате и хлопая рукой по связке ключей, которыми не мог запереть мертвеца.
Затем он вытер платком потный лоб. И начал городить вздор. Он ведь уничтожил его однажды! А мертвеца не уничтожишь. Здесь любая ловкость, любые «двойные удары» дают осечку. Теряют силу.
Мертвые приходят, когда хотят, уходят и возвращаются, когда хотят, входят, куда хотят.
Господину Эмилу Саве эта привилегия казалась нелепой и несправедливой. Он готов был потребовать закона, регламента о мертвецах, издать на этот счет указ.
— И нашел ведь, подлец, время для своих затей! Как раз теперь! Говорю тебе, эта мрачная шутка вполне в его духе. Он делает это нарочно!
«Как раз теперь» означало: в те дни, когда политическая карьера господина префекта Эмила Савы увенчалась величественным, поистине царским деянием.
На площади Мирона Костина гордо возвышалась Административная Палата, с широкими гранитными лестницами, с башней, господствующей над всем городом. Уже подготовили программу открытия, которая предусматривала различные празднества. Для встречи представителей правительства соорудили триумфальные арки. Ожидали приезда двух министров: обещал быть симпатичный и популярный министр юстиции Джикэ Элефтереску, добрый друг господ Эмила Савы и Иордана Хаджи-Иордана. И министр внутренних дел Александру Вардару, человек, куда более тяжелый и не терявший выдержки при сведении политических счетов.
Читать дальше
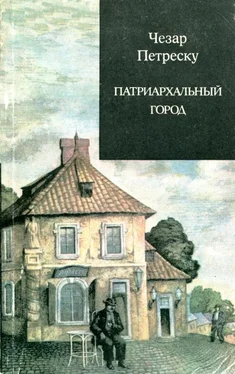


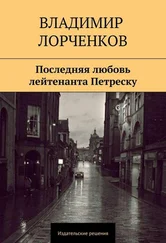





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)