Он кивает.
Страх одиночества поднимается во мне. Когда Кача увезут, друзей у меня здесь больше не останется.
– Кач, нам надо обязательно встретиться, если до твоего возвращения вправду настанет мир.
– Думаешь, меня с этой вот костью признают годным? – горько спрашивает он.
– В спокойной обстановке она заживет. Сустав-то в порядке. Может, все уладится.
– Дай мне еще сигарету, – просит он.
– Может, позднее чем-нибудь займемся вместе, Кач.
Мне очень грустно, невозможно, чтобы Кач… Кач, мой друг, Кач с сутулыми плечами и тонкими мягкими усиками, Кач, которого я знаю совсем по-другому, не как всех остальных людей, Кач, с которым я разделил эти годы… невозможно, чтобы я больше не увидел Кача.
– Дай мне свой домашний адрес, Кач, на всякий случай. А я запишу тебе мой.
Бумажку с адресом я кладу в нагрудный карман. Как же мне одиноко, хотя он пока сидит рядом. Пальнуть, что ли, себе в ногу, чтобы остаться с ним?
Внезапно в горле у Кача булькает, он становится зелено-желтым. Бормочет:
– Надо идти.
Я вскакиваю в пылком желании помочь, снова подхватываю его, припускаю бегом, бегу плавно, неторопливо, как стайер, чтобы не слишком бередить ему ногу.
В горле пересохло, перед глазами черно-красные круги, когда я, закусив губы и не щадя себя, без остановки наконец добегаю до санпункта.
Там колени у меня подгибаются, но я все-таки нахожу в себе силы упасть на тот бок, где у Кача здоровая нога. Через несколько минут снова выпрямляюсь. Ноги и руки отчаянно трясутся, я с трудом нащупываю фляжку, отпиваю глоток. Губы у меня при этом дрожат. Но я улыбаюсь – Кач в безопасности.
Немного погодя слух улавливает неразборчивые голоса.
– Зря ты так надрывался, – говорит один из санитаров.
Я недоуменно смотрю на него.
Он показывает на Кача:
– Он же мертв.
До меня не доходит:
– У него раздроблена берцовая кость.
Санитар останавливается:
– И вот это…
Я оборачиваюсь. Глаза все еще мутные, меня опять бросило в пот, и он течет по векам. Я утираю его, смотрю на Кача. Он не шевелится.
– Потерял сознание, – быстро говорю я.
Санитар тихонько присвистывает:
– Ну, я тут лучше разбираюсь. Он мертв. Готов поспорить на что угодно.
Я качаю головой:
– Не может быть! Десять минут назад я с ним разговаривал. Он потерял сознание.
Руки у Кача теплые, я беру его за плечи, хочу натереть чаем виски, чтобы очнулся. И чувствую, что пальцы у меня мокрые. Вытаскиваю ладонь из-под его головы – пальцы в крови. Санитар опять присвистывает сквозь зубы:
– Вот видишь…
Я не заметил, но по дороге Качу в голову угодил осколок. Дырочка совсем маленькая, и осколок наверняка был крохотный, случайный. Но его оказалось достаточно. Кач умер.
Я медленно встаю.
– Возьмешь его солдатскую книжку и вещи? – спрашивает санитар-ефрейтор.
Я киваю, и он отдает их мне.
Санитар удивлен:
– Вы ведь не родственники?
Да, не родственники. Не родственники.
Я иду? У меня еще есть ноги? Поднимаю глаза, озираюсь вокруг, поворачиваюсь вместе с ними по кругу, по кругу, останавливаюсь. Все как обычно. Только солдат ландвера Станислаус Качинский умер.
Больше я ничего не помню.
Осень. Стариков здесь осталось немного. Я последний из семерых моих одноклассников. Поголовно все говорят о мире и перемирии. Все ждут. Если снова разочарование, они сломаются, надежды чересчур сильны, чтобы отбросить их без взрыва. Не будет мира – будет революция.
У меня две недели отдыха, потому что я малость глотнул газа. Целыми днями сижу в садике на солнце. Скоро перемирие, теперь и я верю. Тогда мы поедем домой.
На этом мои мысли спотыкаются и дальше идти не желают. С огромной силой меня влекут и ожидают чувства. Жажда жизни, чувство родины, кровь, хмель спасения. Но это не цели.
Вернись мы домой в 1916-м, из боли и мощи наших переживаний родилась бы буря. Если же вернемся сейчас, то усталые, разбитые, выжженные, без корней и без надежды. Мы уже не сумеем найти себе место.
Да нас и не поймут, ведь впереди нас поколение, которое хотя и провело вместе с нами годы на фронте, но имело свой дом и профессию и вернется теперь на прежние позиции, где забудет войну, а за нами идет поколение, похожее на нас, какими мы были раньше, оно наверняка нам чужое и отодвинет нас в сторону. Мы лишние для самих себя, мы будем жить, одни приспособятся, другие покорятся, а многие растеряются; годы растают, и в конце концов мы погибнем.
Хотя, быть может, все, что я думаю, лишь тоска и смятение, которые развеются, когда я снова окажусь под нашими тополями и услышу шелест их листвы. Не может быть, чтобы оно ушло, то ласковое, нежное, что будоражило кровь, то неясное, смущающее, грядущее, тысячи ликов грядущего, мелодия из мечтаний и книг, пьянящий шорох и предчувствие женщин, не может быть, чтобы все это сгинуло в ураганном огне, отчаянии и солдатских борделях.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


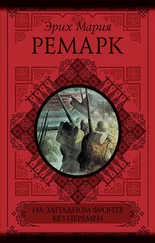

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



