Но что проку? Левандовский со своими заботами лежит в постели. Вся жизнь будет ему не в радость, если он упустит это дело. Мы успокаиваем его, обещаем, что уж как-нибудь найдем выход.
На следующий день после обеда приходит его жена, маленькая, худенькая, с быстрыми, боязливыми птичьими глазами, в этакой черной накидке с оборками и лентами, одному Богу известно, от кого ей достался этот наряд.
Она что-то тихонько лепечет и, оробев, останавливается у двери. Ее пугает, что нас здесь шестеро мужчин.
– Что ж, Марья, – говорит Левандовский, и кадык плотоядно ходит вверх-вниз, – можешь спокойно заходить, они тебе ничего не сделают.
Она обходит палату, за руку здоровается с каждым. Потом показывает младенца, который меж тем успел обмочить пеленки. У нее с собой большая, расшитая бусинами сумка, откуда она достает чистую пеленку и ловко перепеленывает малыша. За этим занятием она преодолевает первое смущение, и они начинают разговор.
Левандовский ужасно взвинчен, круглые навыкате глаза то и дело печально косятся на нас.
Время подходящее, врачебный обход миновал, в палату может заглянуть разве только сестра. Поэтому отряжаем еще одного в коридор – на разведки. Вернувшись, он кивает:
– Никого. Ну, скажи ей, Иоганн, и вперед.
Они говорят на своем языке. Женщина краснеет и смущается. Мы добродушно ухмыляемся и жестами показываем: да что тут такого! Черт с ними, с предрассудками, их придумали для других времен; вот лежит столяр Иоганн Левандовский, искалеченный пулями солдат, а вот его жена, кто знает, когда он снова ее увидит, он хочет ее и пусть получит, точка.
Двое становятся перед дверью, чтобы перехватить сестер и отвлечь их внимание, если они случайно появятся. Караулить они намерены минут пятнадцать.
Левандовский может лежать только на боку, поэтому за спину ему заталкивают еще несколько подушек. Альберт держит ребенка, потом мы все чуток отворачиваемся, черная накидка исчезает под одеялом, а мы режемся в скат, громко шлепая картами и восклицая.
Все нормально. У меня никчемное трефовое соло с четверками, которое удается кое-как разыграть. За картами мы почти забываем Левандовского. Немного погодя младенец начинает хныкать, хотя Альберт отчаянно его качает. Потом что-то шуршит, а когда мы невзначай поднимаем глаза, то видим, что ребенок уже сосет рожок и снова находится на руках у матери. Значит, порядок.
Сейчас мы чувствуем себя как большая семья, женщина весьма приободрилась, Левандовский лежит потный и сияющий.
Достав из вышитой сумки несколько аппетитных колбас, Левандовский, словно букет, берет нож, кромсает колбасу на куски. Широким жестом указывает на нас – и маленькая сухонькая женщина обходит нас одного за другим, смеется и раздает колбасу, причем выглядит просто пригожей. Мы зовем ее мамашей, а она радуется и взбивает нам подушки.
Через несколько недель меня каждое утро посылают в институт Сандера. Там мою ногу стягивают ремнями и разрабатывают. Плечо давно зажило.
С фронта прибывают новые санитарные эшелоны. Повязки уже не матерчатые, а всего-навсего из белой гофрированной бумаги. Там не хватает перевязочного материала.
Культя у Альберта заживает хорошо. Рана почти закрылась. Еще неделя-другая – и его направят в протезное отделение. Говорит он по-прежнему мало и куда более серьезен, чем раньше. Часто замолкает посреди разговора, глядя в пространство перед собой. Не будь он вместе с нами, давно бы покончил с жизнью. Но теперь худшее позади. Иной раз он даже смотрит, как мы играем в скат.
Я получаю отпуск на реабилитацию.
Мама не хочет меня отпускать. Она очень слаба. Все еще хуже, чем последний раз.
Потом меня отзывают в полк, и я снова еду на фронт.
Расставаться с Альбертом Кроппом, моим другом, нелегко. Но в солдатах и к такому со временем привыкаешь.
Недели мы больше не считаем. Когда я прибыл, стояла зима, и при разрывах снарядов мерзлые комья земли представляли собой едва ли меньшую опасность, чем осколки. Сейчас деревья вновь зеленеют. Мы попеременно то на фронте, то в барачных казармах. И отчасти привыкли, что война такая же причина смерти, как рак и туберкулез, грипп и дизентерия. Только смерти куда многочисленнее, разнообразнее и страшнее.
Наши мысли – глина, их месит смена дней: они добрые, когда мы на отдыхе, и мертвые, когда мы под огнем. Сплошные воронки, что снаружи, что внутри.
Таковы все, не мы одни… Что было раньше, не в счет, да и вправду уже забылось. Различия, созданные образованием и воспитанием, почти стерлись и едва-едва заметны. Порой они дают преимущества в использовании той или иной ситуации, но, с другой стороны, наносят ущерб, вызывая комплексы, которые приходится преодолевать. Раньше мы были вроде как монетами разных стран; их переплавили, и теперь на всех одна и та же чеканка. Хочешь отыскать различия, изволь детально изучить материал. Мы солдаты, а уж потом, удивительным и стыдливым образом, еще и люди.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


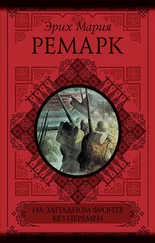

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



