Проходят месяцы. Лето 1918-го – самое кровавое и самое тяжкое. Дни, точно ангелы в золоте и голубизне, непостижимо стоят над кольцом истребления. Каждый на фронте понимает, что войну мы проиграем. Разговоров об этом немного, мы отходим, вести наступательные действия после этого крупного наступления уже невозможно, нет у нас больше ни людей, ни боеприпасов.
Но кампания продолжается… смерть продолжается…
Лето 1918-го… Никогда жизнь в ее скудном облике не казалась нам такой желанной, как сейчас; красные маки на лугах возле наших тыловых квартир, гладкие жучки на травинках, теплые вечера в полутемных прохладных комнатах, черные загадочные деревья сумерек, звезды и плеск воды, мечты и долгий сон, – о жизнь, жизнь, жизнь!
Лето 1918-го… Никогда нам не было так трудно молча выдержать минуту выступления на фронт. Ползут сумасшедшие, будоражащие слухи о перемирии и о мире, они смущают сердца и делают отъезд еще более тягостным, чем обычно!
Лето 1918-го… Никогда жизнь на передовой не бывала горше и ужаснее, чем в часы артобстрела, когда бледные лица тычутся в грязь, а руки судорожно молят об одном: Нет! Нет! Не теперь! Не теперь, не в последнюю минуту!
Лето 1918-го… Ветер надежды, веющий над выжженными полями, безумная лихорадка нетерпения, разочарования, мучительнейший страх смерти, непостижимый вопрос: почему? Почему не положат этому конец? И почему возникают слухи о конце?
* * *
Здесь множество самолетов, и летчики так самоуверенны, что устраивают охоту на солдат-одиночек, как на зайцев. На один немецкий самолет приходится по меньшей мере пять английских и американских. На одного голодного и усталого немецкого солдата в окопе – пятеро энергичных, свежих солдат в окопе противника. На одну буханку немецкого хлеба – пятьдесят банок тушенки у противника. Мы не разбиты, потому что как солдаты лучше и опытнее; нас просто задавило и отбросило многократное превосходство врага.
Позади остались несколько дождливых недель – серое небо, серая размокшая земля, серая смерть. Уже по пути на фронт сырость проникает сквозь шинели и одежду, и так продолжается все время на передовой. Просохнуть не удается. Те, кто еще носит сапоги, перетягивают голенища поверху мешковиной, чтобы глинистая вода не сразу заливалась внутрь. Винтовки заскорузлые от грязи, форма заскорузлая от грязи, все растекается жижей, набрякшая, влажная, маслянистая масса земли, где стоят желтые бочаги со спиральными красными кровяными разводами и где медленно тонут убитые, раненые и уцелевшие.
Буря хлещет нас, град осколков вышибает из хаоса серости и желтизны по-детски пронзительные крики раненых, а по ночам раскромсанная жизнь тяжко стонет, уходя в безмолвие.
Наши руки – земля, наши тела – глина, наши глаза – дождевые лужи. Мы не знаем, живы ли еще.
Затем в наши окопы медузой обрушивается сырой, душный зной, и в один из этих дней на исходе лета, при подноске еды, пуля настигает Кача. Мы с ним вдвоем. Я перевязываю рану; кажется, раздроблена большая берцовая кость. Поэтому Кач отчаянно стонет:
– Надо же… именно теперь…
Я его утешаю:
– Кто знает, сколько еще продлится эта свистопляска! Главное, ты уцелел…
Рана начинает сильно кровоточить. Я не могу уйти за носилками и оставить Кача одного. Да и не знаю, где тут поблизости санчасть.
Кач не очень тяжелый, я взваливаю его на спину и иду в тыл, на перевязочный пункт.
Дважды мы останавливаемся отдохнуть. На ходу его мучают сильные боли. Говорим мало. Я расстегнул ворот куртки, дышу тяжело, весь в поту, лицо отекло от натуги. И все же настаиваю: надо идти дальше, здесь опасно.
– Выдюжишь, Кач?
– Надо, Пауль.
– Тогда вперед.
Я поднимаю его, он стоит на одной ноге, держась за дерево. Затем я бережно берусь за раненую ногу – он дергается, – подхватываю под колено здоровую ногу, тоже зажимаю под мышкой.
Идти все труднее. Временами неподалеку рвутся снаряды. Я шагаю как можно быстрее, ведь из раны Кача на землю капает кровь. Защититься от разрывов нам толком не удается, ведь пока укроемся, все уже позади.
Чтобы переждать, прячемся в небольшой воронке. Я даю Качу напиться чаю из моей фляжки. Выкуриваем сигарету.
– Да, Кач, – печально говорю я, – теперь придется нам расстаться.
Он молчит, смотрит на меня.
– Помнишь, Кач, как мы реквизировали гуся? И как ты вытащил меня из заварухи, когда меня, зеленого новобранца, первый раз ранило? Тогда я еще плакал. Кач, ведь почти три года прошло.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


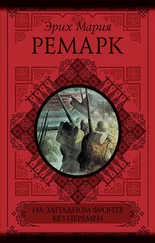

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



