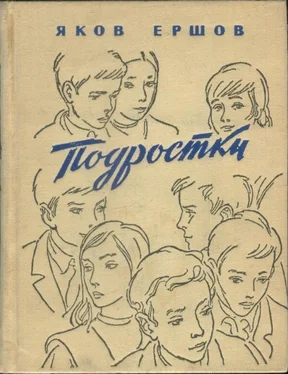— Ну и как же? — поторопила я.
— А никак, — ответил Оськин. — На этом все и кончилось. А я к тому говорю, что зря на Борьку напраслина такая возводится. Он скорее на грабителя бросится или хулигана остановит, чем на нечестный поступок решится. Я век ему благодарен буду, что от Косолапого отучил. Только теперь понял: засосало бы меня в трясину, не выбраться.
— Ты бы следователю это сказал, — опять упрекнула я.
Оськин обиделся. Поджал губы. Встал с бревен. Медленно побрел по тропке. Я за ним.
— Чудачка, — заговорил, наконец, он. — А я тебе о чем толкую? Все, как тебе, так и ему рассказал. Да еще постращал: Борьку, мол, в обиду не дам. Зубами за него драться буду.
Долго мы бродили за околицей села в тот вечер. Увидел бы кто из наших, наверняка на другой день на классной доске крупно вывели б мелом: «Олег + Нина = любовь». Но никто нас не видел. Уже темнело. Над деревьями небо стало синим-синим. А с низины от реки сильно повеяло прохладой. Потом взошла луна. Залила все бледным, матовым светом. И мы с Оськиным оказались будто в другом мире. Где все игрушечное: избы, деревья, тракторы на машинном дворе. Только люди — настоящие.
Наговорившись, мы шли молча. Оськин впереди. Я сзади. Старалась наступить на его бледную тень.
Вдруг из переулка вышел Мухин. Хорошо еще, что я по голосу заранее узнала его, и мы с Оськиным отпрянули к забору. Боря шел с Першиным. И опять они говорили о завершении ремонта техники.
— Ребята помогут, — горячо убеждал Боря. — У нас мастера есть. В прошлом году в школе модель управляемого по радио трактора соорудили.
Першин не спорил.
— Посмотрим, посмотрим, — соглашался он.
Они прошли совсем близко от нас. Оськин ругнулся вслед:
— Фу ты, черт. Мы гуляем, а он все о деле, все о деле…
Зря мы с Оськиным думали, что у Борьки нервы железные, что ему все нипочем. Недавно взглянула на него: осунулся, побледнел. Переживает. Подозвал меня, попросил:
— Ты в город едешь. Передай матери записку. Чтоб не беспокоилась. Я тут еще задержусь.
Я, конечно, пообещала, что обязательно зайду, передам все, как положено. А про себя подумала: о Тамаре — ни слова. Но я все равно ее повидаю. И упрекну: что это такое, забросила парня в самый тяжелый момент. Разве так друзья поступают?
На следующий же день, едва приехав в город, побежала к Мухиным. Открыла мне Борина мама, Анна Прокофьевна.
— А, Нина, — сказала она. — Проходи. — Сказала нерешительно, будто остерегалась чего.
Я сразу поняла, что у нее посторонние, и она не знает, можно ли меня пустить, не помешаю ли я. И точно: из комнаты вышел Кирилл Петрович. Он тоже сказал: «А, Нина!» — и тоже пригласил проходить. Пояснил:
— Разговор у нас житейский. Втроем даже легче беседу поддерживать. Ты же со свежими новостями. Кстати, как там Боря?
Я поморщилась. Не понравилось мне, что Кирилл Петрович опередил и меня, и Анну Прокофьевну — о Боре раньше спросил. Но сдержалась, сказала:
— Боря ничего. Все хорошо. Письмо вот прислал. И приветы всем передавал.
Анна Прокофьевна взяла письмо. Мы все трое прошли в комнату. Сели у круглого, накрытого цветной скатертью стола. Я подала ножницы. Анна Прокофьевна отрезала бочок конверта, вынула письмо, начала торопливо читать. Я смотрела на ее лицо и видела, как око меняется. Щеки вдруг зарумянились. Глаза, доселе тусклые, погасшие, засветились добрым огоньком. Она отложила в сторону письмо и заговорила робко, тихо, словно рассуждая сама с собой:
— Слава богу, жив, здоров. А уж я беспокоилась. Тамара, правда, позванивала, приветы передавала. А письмо получить приятнее. Спасибо тебе, касаточка, — повернулась она ко мне.
Помолчала, потом обратилась уже к Кириллу Петровичу, словно продолжая начатый разговор:
— Надежда моя, Боренька-то. Опора в старости. И нежный такой, внимательный. Я только еще подумаю, а он уже предлагает: мамочка, давай я тебе помогу. К труду сызмальства привычный. И по дому что, и в школе. Он ведь на общественных этих работах завсегда допоздна пропадает. Доля у него нелегкая выдалась. Детства, можно сказать, и не видел. Мой-то изрядно зашибает. Придет, буянит. Меня с малыми ребятами за дверь выставит. А он, Боря-то, сестренку на ручонки и — к соседям. Там иной раз и заночует. Я уж во дворе время коротаю, пока одумается. К соседям стыдно мне идти. Отец у нас, когда протрезвеет, хороший, ласковый. Придет, извиняется. А потом, гляди, все сначала.
Она опять помолчала, собираясь с мыслями, думала, видно, как перейти к самому главному. Кончиком фартука смахнула со щеки светлую, прозрачную слезинку.
Читать дальше