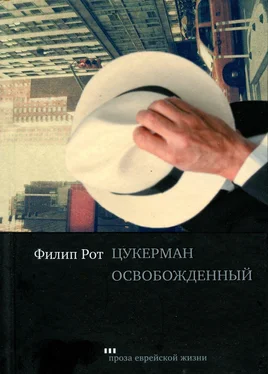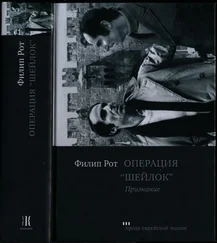Весной 1941 года, когда мальчикам было восемь и четыре, Цукерманы переехали в отдельный дом, кирпичный, на усаженной деревьями улице неподалеку от парка, а до этого жили в не столь приятном месте в еврейском районе, у них была маленькая квартирка на углу Лайонс и Лесли. Никогда не бывало, чтобы работало все: и водопровод, и отопление, и лифт, у украинского управдома была дочка Мила-Дразнила, девочка постарше с большой грудью и плохой репутацией, и не у всех в доме полы на кухне были как у Цукерманов — хоть ешь с них, если дела совсем плохи. Но арендная плата была низкая, автобусная остановка под боком, поэтому место оказалось идеальным для молодого мозольного оператора. В те времена кабинет доктора Цукермана располагался в гостиной, где по вечерам семья слушала радио.
На другой стороне улицы — на нее выходило окно спальни мальчиков — за высоким сетчатым забором находился католический сиротский приют с маленькой фермой, где сироты работали, когда их не учили — и, как понимали Натан и его друзья, — не колотили палкой священники католической школы. На ферме работали две старые ломовые лошади — зрелище в их районе неожиданное; но и священник, покупающий пакетик карамелек в кондитерской на первом этаже или едущий с включенным радио на «бьюике» был зрелищем еще более неожиданным. О лошадях он знал из книжки «Черный красавчик», о священниках и монашках — и того меньше, знал только, что они ненавидят евреев. Один из первых рассказов Цукермана, написанный в старшей школе, назывался «Сироты» и был про еврейского мальчика, окно спальни которого выходило на католический приют, в рассказе мальчик все пытался представить, каково это — жить за их забором, а не за его. Однажды к отцу пришла темноволосая грузная монахиня из приюта — ей нужно было удалить вросший ноготь. Когда она ушла, Натан ждал (напрасно), когда мама побежит с ведром и тряпкой вытирать дверные ручки, до которых дотрагивалась монахиня. Ему очень хотелось узнать, как выглядят голые ступни монахини, но в тот вечер при детях отец ничего об этом не сказал, а в шесть лет Натан был не настолько маленький и не настолько взрослый, чтобы взять да спросить об этом. Через семь лет визит монахини стал центральной сценой «Сирот», этот рассказ он послал издателям «Либерти», затем «Колльерз», затем в «Сэтеди ивнинг пост» под псевдонимом Николас Зак — и в ответ получил первую серию отказов.
Он не поехал прямиком в Нью-Йорк, а попросил шофера свернуть по указателю в Ньюарк — хотел еще ненадолго отложить жизнь Натана Цукермана, в которого удивительным образом превратился безмолвный и безвестный Зак. Он показывал, как проехать по автостраде, свернуть на съезде к Фрелингуизен-авеню, оттуда мимо парка и озера, где они с Генри учились кататься на коньках, дальше — вверх по длинной Лайонс-авеню, мимо больницы, где он родился и где ему делали обрезание, к забору, ставшему темой его первого рассказа. Шофер был вооружен. Теперь, если верить Пеплеру, в этот город только так и можно ехать.
Цукерман нажал на кнопку, стеклянная перегородка опустилась.
— Какой у вас пистолет? — спросил он шофера.
— Тридцать восьмого калибра, сэр.
— Где вы его носите?
Шофер хлопнул себя по правому бедру.
— Хотите посмотреть, мистер Ц.?
Да, стоит взглянуть. Увидел — поверил, поверил — знаешь, а знание лучше незнания и незнаемого.
— Да.
Шофер задрал пиджак, открыл пристегнутую к поясу кобуру, размером не больше очечника. Когда они остановились на светофоре, он взял в руку крохотный пистолет с коротким черным дулом.
«Что есть искусство?» — подумал Цукерман.
— Любого, кто подойдет к этому малышу ближе чем на три метра, ждет большой сюрприз. — Пистолет пах машинным маслом.
— Недавно смазан, — сказал Цукерман.
— Да, сэр.
— Недавно стреляли?
— Вчера вечером, сэр, пристреливал.
— Можете убрать.
Вполне предсказуемо двухэтажный дом, в котором он жил с рождения, показался ему лилипутской репликой кирпичной крепости с навесом, которую он описывал по памяти. А был ли навес? Может, и был когда-то, теперь его не было. Как не было и входной двери, ее сорвали с петель, а в холле большие окна по обе стороны отсутствующей двери стояли без стекол и были заколочены досками. Там, где прежде висели две лампы, освещавшие вход, болтались голые провода, в подъезде валялся мусор. Настоящая трущоба.
В доме напротив на месте мастерской портного был магазин духоподъемных товаров — в витрине выставлены статуэтки и прочие «предметы культа». На углу, где некогда была бакалея, теперь расположилась Евангелическая ассамблея Часовни на Голгофе. На автобусной остановке стояли и беседовали четыре грузные чернокожие женщины с хозяйственными сумками. Когда он был маленький, четыре чернокожие женщины на автобусной остановке приезжали бы со Спрингфилд-авеню убирать в домах еврейских женщин в районе Виквахик. Теперь они перебирались из района, где жили сами, убирать у еврейских женщин в пригородах. Кроме стариков, которым не удалось выбраться из муниципальных домов поблизости, евреев тут больше не осталось. Как почти не осталось белых, включая католических сирот. Приют, похоже, превратили в какую-то городскую школу, а на углу, где раньше располагалась ферма, построили какое-то новое неприметное зданьице. Банк. Оглядевшись по сторонам, он задумался: а кто же им пользуется. Кроме свечей, ладана и статуэток, на Лайонс-авеню больше не продавалось ничего. Похоже, нигде поблизости нельзя было купить ни буханку хлеба, ни фунт мяса, ни пинту мороженого или пузырек аспирина, не говоря уже о платьях, часах или стульях. Улочка с мастерскими и магазинчиками умерла.
Читать дальше