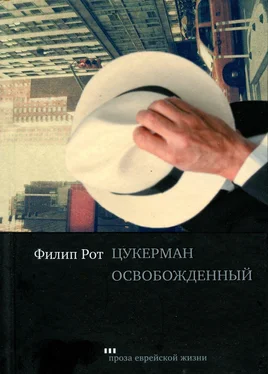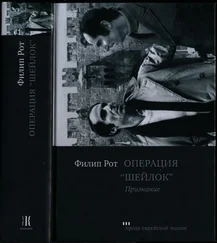И что он мог на это возразить? Все, что сказала бы она, звучало так честно и убедительно, а все, что сказал бы он, звучало так неискренне и вяло. Оставалось только надеяться, что она не сможет так стройно обосновать свои претензии к нему, как получилось у него самого. Но, зная ее, рассчитывать на это он не мог. О, его смелая, разумная, серьезная, благородная Лорелея! А он бросил ее. Написав книгу якобы про кого-то другого, кто пытается освободиться от привычных пут.
На Бэнк-стрит он дал таксисту на чай пятерку — за отвагу, проявленную на Вестсайдском шоссе. Он и сотню мог дать. Он оказался дома.
Но Лоры дома не было. Он звонил и звонил, потом побежал к соседям, вниз по бетонной лестнице, в квартиру в подвале. Громко постучал в дверь. Розмари, учительница на пенсии, прежде чем отпереть замки, долго смотрела в глазок.
Лора уехала в Пенсильванию, в Алленвуд — встретиться с Дугласом Мюллером по поводу его условно-досрочного освобождения.
Алленвуд — тюрьма нестрогого режима, куда направляли тех, кто совершил ненасильственные преступления. Один из Лориных подопечных, Дуглас, молодой иезуит, отказался от монашества, чтобы бороться с призывом в армию, уже не будучи защищенным саном. Год назад, когда Цукерман поехал с Лорой навестить его в тюрьме, Дуглас признался Натану, что у него была еще одна причина уйти из монастыря: в Гарварде, куда орден послал его изучать языки Ближнего Востока, он потерял невинность. «Такое случается, — сказал он, — когда разгуливаешь по Кеймбриджу без воротничка-колоратки». Дуглас надевал воротничок, только когда выходил на демонстрацию в поддержку Сесара Чавеса [39] Сесар Чавес (р. 1927) — американский правозащитник, борец за права мигрантов.
или против войны, обычно ходил в рубашке и джинсах. Этому застенчивому, задумчивому пареньку со Среднего Запада было лет двадцать пять, и силу его верности делу, требующему полного самоотречения, можно было понять по хрустальной ясности его светло-голубых глаз.
Дуглас что-то знал от Лоры о романе, который дописывал Цукерман, и во время визита развлекал писателя историями о том, как он студентом пытался бороться с грехом самоудовлетворения. Скрипя зубами и пунцовея, он рассказывал Цукерману о тех временах в Милуоки, когда утром он первым делом шел исповедоваться в бесчинствах прошедшей ночи, а через час снова возвращался исповедоваться. И ничто в этом мире, равно как и в другом, не могло ему помочь — ни размышления о страстях Христовых, ни надежда на воскресение, ни сочувственно к нему относившийся священник школы иезуитов, который в конце концов отказался отпускать ему грехи чаще чем раз в сутки. Переработанные и перемешанные с воспоминаниями самого Натана, кое-какие из лучших историй Дугласа проникли и в жизнь Карновского, юного создания, терзаемого онанизмом в еврейском Нью-Джерси так же, как терзался им Дуглас, росший в католическом Висконсине. Подписанный экземпляр первого издания книги автор послал в Алленвуд и в ответ получил от узника короткую сочувственную записку: «Передайте бедняге Карновскому: я молюсь, чтобы Господь дал ему сил. Брат Дуглас Мюллер».
— Она вернется завтра, — сказала Розмари. Она стояла у двери, дожидаясь, когда Натан уйдет. Она вела себя так, будто он силой ворвался в ее прихожую и она не намерена пускать его дальше.
В шкафу Розмари Лора хранила папки со своей перепиской. Охраняя их от возможного вторжения ФБР, одинокая дама обрела новую цель в жизни. Лора тоже обрела новую цель. Три года Лора нянчилась с Розмари, как дочь: ходила с ней к оптометристу, водила в парикмахерскую, отучала от снотворного, испекла ей на семидесятилетие огромный торт…
Думая о бесконечном списке добрых дел и о женщине, которая их совершала, Цукерман понял, что ему необходимо присесть.
Розмари тоже присела, но без особого удовольствия. Она села в датское кресло из его кабинета, старое кресло, которое он не забрал с собой. Потрепанная марокканская скамеечка для ног тоже была его до переезда.
— Как ваша новая квартира, Натан?
— Там одиноко. Очень одиноко.
Она кивнула, словно он сказал: «Прекрасно».
— А работа?
— Работа? Ужасно. На нуле. Не работаю уже несколько месяцев.
— А как ваша милая матушка?
— Одному Богу известно.
Руки у Розмари всегда дрожали, и ответы Цукермана дрожи не унимали. Она все еще выглядела так, будто давно недоедала. Иногда Лора приходила посидеть с ней за ужином, чтобы удостовериться, что она хоть что-то ест.
Читать дальше