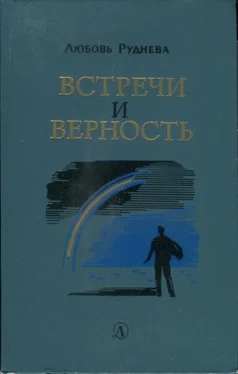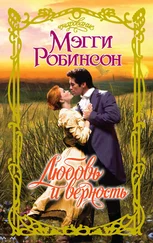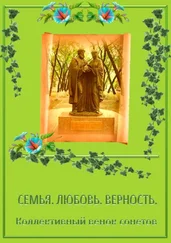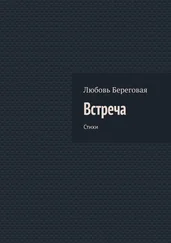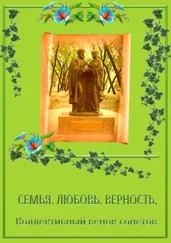Я поднялся по лестнице и позвонил. Томаш гостеприимно распахнул передо мной дверь.
В его кабинете, над большим письменным столом, в простенке окна, висела модель деревянной трехмачтовой шхуны. Она наплывала на потемневшее окно.
— Видите, — сказал, улыбаясь, Томаш, — она идет курсом крутой бейдевинд левого галса. У каждого есть свой детский кораблик, на котором он умудряется совершить главный рейс в будущее, и, может быть, верность его выведет в большой океан.
Томаш хотел пошутить, но я все еще слышал хорал — окно кабинета выходило на площадь, и мне показалось: шхуну приподняли волны, бившие в окно.
Огляделся: полки уставлены русскими, немецкими книгами, атласами, словарями. Слева, в центре стены, — большой карандашный портрет. Горела только настольная лампа — я не мог его разглядеть.
Томаш придвинул мне кресло, положил на стол коробку сигарет и взялся за свою трубку. Он ходил по комнате, вытянутой, как каюта, — высокий, неторопливый.
На верфи я удивлялся его широкому шагу, теперь он ступал экономно, будто вышел в дальнюю дорогу.
— Вы рисуете, Томаш?
— Нет, мой друг был художником, там в горах работал.
Был — значит, его нет. Я не спрашивал больше, только поднял глаза на большой портрет — он показался мне странным. Томаш перехватил мой взгляд и повернул выключатель. Под потолком зажглась лампа, матовый ровный свет залил стены, теперь я уже отчетливо видел продолговатое лицо, рассеченную бровь, глубокий шрам на щеке и верхней губе. Правый глаз с большим темным зрачком смотрел на меня пытливо, тревожно. Зазубрина шрама нависала и над ним, портила высокий лоб, а левый, с парализованным веком, глядел грустно.
Он был красив, этот обезображенный человек: прямой нос с горбинкой, ярко очерченный рот, мягкая и в то же время решительная линия подбородка.
Я сказал:
— Хорошее лицо.
Томаш уронил:
— Ваш офицер, Дымка…
— Где же он?
Томаш горестно пожал плечами, сел напротив меня.
Я молчал, молчал и Томаш, он ведь отправился не в легкий рейс по своей жизни. Я ждал и, взглянув на портрет, снова увидел притягательное и незнакомое лицо.
Томаш положил трубку на стол, его длинные пальцы обхватили подлокотники кресла, и, глядя на нее, он заговорил:
— Я жил тогда в селе под Прешовым, учился в гимназии, каждый день ездил в город, к вечеру возвращался и в сарае мастерил эту шхуну. Я мечтал о Дунае, о море, душно было в Словакии, гардисты в гимназии отпускали усики а-ля Адольф, и его судорожное лицо и орущий рот мне мерещились на всех углах.
Однажды после обеда мать сказала:
«В селе появился русский, наверное из пленных: лицо исполосовано, на руках шрамы, а работник что надо. Помогает старому Адаму».
Было еще светло, и я заглянул к соседу во двор. У верстака, спиной ко мне, стоял обнаженный по пояс человек. Он был худ и бос. С шелестом падали на землю стружки, выбегавшие из-под его рубанка. Меня притягивал запах влажной древесины, я шагнул ближе. И увидел на спине и плечах русского глубокие шрамы. Он наклонялся и выпрямлялся, а я в ритм его работы думал:
«Битый, раненый, живучий…»
Он работал с жадностью — это было заметно по его рукам: они двигались ритмично, быстро, он весь ушел в движение, иногда поглаживал доску ладонью, будто она его понимала и ей была приятна его ласка. Он прочищал рубанок и снова стругал, наклонив голову набок.
Я долго стоял у него за спиной, пока меня не позвала мать:
«Томаш, иди делать уроки!»
Но в тот вечер я не решил ни одной задачи, я думал о русском.
«У него чистая совесть и потому легкие руки», — записал я на странице ученической тетради, потом спохватился и вырвал ее. Я вышел во двор, смотрел на дом Адама, окна темнели, все было тихо.
Он тут нашел крышу, а где-то в России самые родные ничего не знают о нем. Нет у него ни своей рубахи, ни колышка, и все начинай заново…
Дети умеют проникать под любую крышу, если крыло чужой жизни коснулось их и приворожило. Что ж, иной раз они могут охватить чувством большую жизнь и, пожалуй, ошибаются меньше, чем умудренные опытом. В этом я уверился позднее.
В ту ночь, глядя в темные окна Адамова дома, я многое передумал, но никак не мог взять в толк, почему с таким увлечением русский строгал доски и рубанок так и летал в его руках. Может, он плотник, крестьянский сын и рад заняться привычным делом?!
А вдруг и он сейчас не спит, слушает, как в соседнем дворе я топчусь и вздыхаю, будто стреноженная лошадь. Мне стало не по себе, и я пошел спать.
Читать дальше