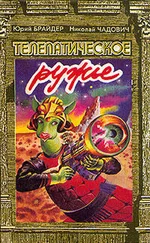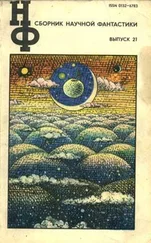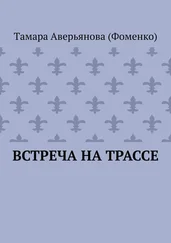— Очень даже… Очень приходилось. Задумывался. И заземлился на маленькой пользе.
Евдокия Сергеевна готовила ужин, Матрена Васильевна, строгая, степенная, сохраняя достоинство сватьи, помогала ей.
Людмила занимала гостей, угощала сдобой и чаем, с сожалением говорила о том, что ее театр на гастролях и что она не могла поехать с ним.
Анатолий шепнул Никите:
— Надоедливая девица… — Он так и сказал «девица», мог бы сказать «девочка», — в ней много было детского, — без конца толкует о театре.
— Мы-то с тобой, Анатоша, можем и должны понять ее; противоречия, дорогой мой, увлеченность и обыденность, театр и хата — невестка в крепкой семье! Утверждает себя на сцене, предчувствуя, что прощается со сценой.
Людмила суетилась, угощала гостей, чем бог послал.
— Мы с мамой-Евдокией были на спектаклях московского, приезжал на гастроли; нам с мамой очень понравился предельно слаженный ансамбль, но главное — правда игры; для меня самое главное — правда игры, а как же иначе?
— Да-да, — сочувственно откликнулась Евдокия Сергеевна, появляясь в дверях с кухонным полотенцем на плече. — Людочка совершенно права, сто лет пьесе, а смотрится, как будто все сегодня происходит.
— Ну, теперь у них этого не увидите, — вставил свое слово носатый мастер. — Теперь все по-новому. Все наоборот. Тоже очень интересно получается.
— Мы, вся публика, вызывали-вызывали, — загорелась Людмила, — я ладошки отбила, аплодируя. Мама-Евдокия тоже была очень довольна. Долго аплодировали и опоздали на «трясучку». Спасибо, Эдуард Гаврилович Полох подбросил на своей машине…
Она вдруг умолкла, растерянно оглянулась на свекра, от детской восторженности не осталось и следа.
— Услужливый товарищ! — буркнул Семен Терентьевич.
— А что тут такого? — снова появилась в дверях Евдокия Сергеевна с теркой в руках. — Не топать же пешака среди глухой ночи?
Анатолий украдкой присматривался к Людмиле — смущенье провинившегося ребенка сгладилось; в уголках рта морщинки горечи, ожесточенность женщины, искушенной жизнью.
— Подловато, конечно, — тихо проговорила она, — ради удобного местечка не побрезговали, кто за рулем.
— Да что вы, Людмила, — влюбленно глянул на нее Михаил, — нашли о чем беспокоиться, обыкновенно — транспорт!
— Вот так, Людочка, — вздохнул Никита, — театр, аплодисменты прекрасному, гармония, каждому свой выход — белому, черному. А потом белое и черное в одном транспорте.
— Заладили, транспорт, транспорт! — неожиданно резко вырвалось у Людмилы. Анатолия поразила переменчивость ее настроения, не было уже увлеченной девчонки, холодно и зло смотрела уязвленная женщина. — Кому нужны ваши словечки — транспорт… Привыкаем к паскудству, приживаемся, вот он, ваш транспорт.

— Успокойся, — стиснул руку жены Павел. — Не кипятись за чайным столом, не порть часок себе и людям.
— Она правильно сказала! — повысил голос Семен Терентьевич.
— А зачем ей зря тревожиться, — выпрямился Павел. — Людочке сейчас надо отдыхать, свободно дышать в садочке; молоко испортится, так что нам с ваших разговоров? Мне дети дороже.
Павел не выпускал рук Людмилы. Она уже успокоилась, заговорила с прежней восторженностью:
— А знаете, удивительно — Антон Павлович называл роль Лопахина центральной; «Если она не удастся, то значит и пьеса вся провалится…» Представляете — центральная! А на роль Раневской благословил Ольгу Леонардовну, доверил ей, только ей, больше никому. Доверил самому близкому человеку. Вы думали об этом? Лопахин — фигура. Любовь Андреевна — тревога, душевная мука… Комедия?
Гости говорили о последней телепередаче, были ею очень довольны — речь шла о неожиданном успехе любимой футбольной команды, проигравшей с минимальным счетом.
— Что-то Хомы Пантелеймоновича не видать, — забеспокоился Семен Терентьевич, оглядываясь по сторонам. — Как бы на левадку не завернул, обидно за человека.
— А я сейчас о Пантюшкине подумала, — обмолвилась Людмила.
— С чего бы это? — насторожился Семен Терентьевич.
— Не знаю… Бывает так, встретится в толпе неизвестная личность и напомнит кого-то.
— Ну, уж… Дрянь-человек, и вспоминать ни к чему в такой день.
— Суровый вы, строгий, Семен Терентьевич.
— Не суровый, а справедливый.
— А что тут справедливого — не вспоминать? — придрался Павел к словам отца. — Я тоже вспомнил. Вы про Хому, я про Ерему. Одно к одному, Хома к Пантюшкину, не так уж далеко.
Читать дальше