Вечером у Евгена Кузьмича Поливоды сварили картошку в мундирах и, обдирая пальцами кожуру, ели, макая горячие, дымящиеся картофелины в блюдце с подсолнечным маслом и крупной солью.
За столом велась задушевная беседа.
— И на фронте повоевали? — спрашивал Евген Кузьмич.
— Повоевала, — отвечала Вика.
— Как же мама-то отпустила?
— Так. Сперва я хотела поступить дружинницей в МПВО, а в штабе сказали, чт, о у них мне делать нечего, поскольку это не пионерский отряд, а местная противовоздушная оборона, войсковая часть. Я им сказала: "А я девять классов кончила". А они мне сказали: "Ну и что из этого?" И выпроводили. В горкоме комсомола, в военкомате одно и то же… И тогда я пошла на станцию, там эшелоны воинские стояли, нашла одного начальника и сказала, что я беженка, потеряла родителей. Прикинулась такой несчастной, что просто ужас. У того начальника, наверное, мурашки по коже забегали от жалости ко мне, и он меня скоренько зачислил санитаркой в медсанбат. И я с медсанбатом поехала на войну.
— Ай-яй-яй! — искренне изумился Евген Кузьмич. — А ведь я папу вашего знаю. Я здесь сорок шестой бычок тогда строил, а он на правобережье был. Встречались, как же!
Квартира у Евгена Кузьмича по тем временам, для разрушенного фашистами города, была шикарной: две комнаты и кухня с действующим водопроводом. Но захламлена она была столь же шикарно. У Вики даже дух захватило при виде такого беспорядка. Она попросила ведро, тряпку и швабру, которых у Евгена Кузьмича не оказалось. Тряпка, правда, нашлась, но ведра и швабры не было.
— Ничего, — беспечно сказал Евген Кузьмич, — скоро жена с ребятишками явится, они тут быстро все повытрясут. А вы, как поедите картошки, чайку попьете, тогда лучше уберите со стола посуду, а на стол переложите книги с дивана и ложитесь спать на тот диван. Вот и будет у вас все хорошо. А сейчас лучше расскажите, как же вы к нам пожаловали. По путевке комсомола или каким-нибудь еще путем?
— Каким-нибудь еще путем, — сказала Вика. — Уложила в чемодан два платьица, юбку, буханку хлеба и до свиданья, мама, не горюй, не грусти! Вы поймите меня, Евген Кузьмич, я иначе просто не могла.
— Конечно, не могла! — согласился Евген Кузьмич.
— Вот я и приехала.
— А теперь расскажите мне, человеку в комсомольских делах не сведущему, как вы думаете создавать комсомольскую ячейку. Это ведь дело не шуточное.
— Я понимаю.
— Хотя не такое уж и сложное.
Евген Кузьмич устало, но так же, как и при первой встрече, умиленно улыбнулся.
— В вашем деле важно, дорогая Виктория, одно непременное условие — полнейшее отсутствие бюрократизма. Если не будет бюрократии, у вас все наладится. Поверьте слову коммуниста. А что значит в вашем руководящем положении обходиться без бюрократизма? Это значит — все время быть с людьми, не возноситься над ними, стоять вровень и знать про них все: как они живут, работают, о чем думают, чем занимаются, на кого обижены, чем обрадованы. А самое главное — знать, как работают. Сейчас это самое главное. Вы поняли меня, Виктория?
— Конечно, Евген Кузьмич.
— Вот и славно, милая девочка.
— Когда я смогу провести собрание молодежи?
— Да как вам сказать, — подняв глаза к потолку, молвил Евген Кузьмич. — Пожалуй, денька через три можно будет вам и собраться, потолковать.
Гапуся Синепупенко
Ай, Гапуся, Агриппина Синепупенко! Губы у нее такие сочные, такие яркие, глазищи под черными бровями такие синие, что и сказать невозможно. Надо же, чтоб природа наградила этакой красотой всего одну дивчину, когда вполне хватило бы девчат на пятнадцать, а то и больше. Как поведет она теми очами, как хлопнет ресницами, как захохочет во все горло, во весь свой белозубый рот, так парни и начнут чуть ли не пачками валиться на землю, сраженные в самое сердце ее непревзойденной красотой. И не смотри, что ей совсем недавно сровнялось всего лишь восемнадцать лет. Да, Гапуся Синепупенко принадлежала к категории тех украинских красавиц, которых полно и на Киевщине, и на Днепропетровщине и с которыми по красоте и веселости нрава могут сравниться разве что донские казачки, а по обморочной вопливости лишь одни торговки с одесского Привоза.
До войны Гапуся беспечно цвела, что твой полевой барвинок. И не будь той треклятой войны, она бы и далее так цвела, не зная ни забот, ни горя. Ибо что она видела, чего бачила? Царя не бачила. Даже кулаков настоящих и частных лавочников. И по простоте душевной полагала, что тот дуже богатый колхоз, в котором состояло все ихнее село от малых деток до сивых дедов, так и был в том селе, может, сто, а может, и все полтораста лет. Потом, в школе, она, конечно, кое-что узнала и про царей, и про кулаков. Но в школе же она узнала и нечто большее, как раз подкреплявшее ее умозаключения, а не разрушавшее их: она узнала, что все, что ни есть — и кони, и бедарки, и трактора, и колхозные волы да коровы, и пароходы на реке, — все принадлежит народу.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

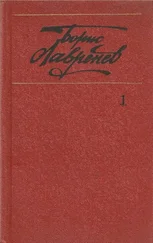
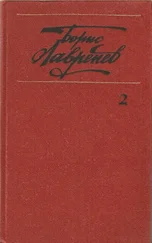




![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


