Дорога все так же шла полями и лугами, то тут, то там под старыми березами и ветлами виднелись хуторские строения, и печальные придорожные распятия Христа, почерневшие и покосившиеся от времени и непогоды, провожали таратайку с восседавшим посреди нее крепко задумавшимся Шпаком.
"Так не он ли действительно? — продолжал рассуждать Терентий Федорович. — Не он ли попытался опередить меня, обезоружить, связать по рукам, по ногам, убрать с дороги, чтобы самому свободнее действовать. Ведь только он видел нас под ивой. Больше никто в поповский сад не заходил. Это я отлично, помню, В алтаре меня видел опять же только он один. А видел ли он, как я осматривал алтарь, пока они справляли свою службу? Наверно, не видел. Он же был с попом в костеле. А может, видел? Э, да черт с ним…"
Терентий Федорович представил себе этого самого семинариста-практиканта, как он, кротко потупясь, всякий раз вежливо кланяется при встрече, его скорбноотрешенную физиономию с гладко причесанными длин-ными волосами, и с досадой и огорчением плюнул кобыле под хвост.
Теперь дело было за самим лейтенантом. Все зависело от его оперативности и решительности действий. Теперь вопрос был поставлен ребром: кто кого? Теперь только бы не опоздать лейтенанту Шпаку.
И, подумав так, Терентий Федорович принялся погонять кобылу, которая совсем разленилась, пока лейтенант прикидывал, что к чему.
Примчавшись в местечко, он не стал терять ни минуты, лишь сунул раненую ногу в тапочку, проверил пистолет и пошел в гости к священнику.
— Очень рад, очень рад! — воскликнул ксендз Беляускас и, улыбающийся, довольный, протянул руки, ринулся, покатился навстречу грузно входившему в его дом разъяренному лейтенанту. — Я сейчас велю накрывать стол, мы давно не виделись, несколько дней, такой большой промежуток времени, — говорил он, взяв Шпака под руку и проводя в прохладную комнату с лоснящимся краской иолом, широкой деревенской дорожкой, с множеством стульев в полотняных чехлах, чинно расставленных вдоль стоп, с фикусами в деревянных кадках и распятием божьим в простенке меж окон.
— Где ваш практикант? Мне надо с ним поговорить, — мрачно и нетерпеливо сказал Терентий Федорович, сев за большой овальный стол посреди комнаты и положив на скатерть свои пудовые кулачищи. — Позовите его.
— К сожалению, его сейчас нет, — сказал священник, огорченно глядя на лейтенанта.
— Как — нет? — взревел Терентий Федорович.
— Но чем вы так обеспокоены, друг мой? — мягко спросил Беляускас. — Он совсем скоро вернется. Я отпустил его навестить больную матушку. Всего два-три дня.
— Ушел, ушел! — простонал Шпак и с таким ожесточением трахнул кулачищами по столу, что ваза с цветами, стоявшая посреди стола, подскочила на целый вершок.
— Нет, не ушел, поехал на велосипеде. Но что же тут есть такого странного? Он навестит матушку и вернется. Еще не кончился срок его практикума.
— Не вернется, — сурово сказал Шпак, совладав С собой. — Теперь уж он не вернется никогда.
— Не вернется? Почему? Он прилежный молодой человек и всегда возвращался. Я его отпускал много раз, — недоуменно поднял брови священник.
— Хех, — Шпак горько усмехнулся. — Вы знаете, какая у него кличка?
— У человека, посвящающего себя духовному сану, не может быть клички.
— А у него есть. Бандит он. Бандит с большой дороги, вот он кто, семинарист ваш. Вы в своем доме бандита укрывали.
— Друг мой, — сказал ксендз, с укором и огорчением поглядев на Шпака, словно на мальчишку, которому надо терпеливо разъяснять самые простые, непогрешимые истины. — В этом доме я укрывал вас. Но я не знаю, что мой практикант есть бандит. Хотя, если бы я знал, что человек подвергается такой большой опасности, какая грозила тогда вам…
— Это как же понимать? — с изумлением воззрился на него Терентий Федорович. — И вашим, и нашим, что ли?
— Нет, нет, нет, — запротестовал Беляускас. — Вы мне не дали сказать, я сбился. Но только богу. Никакой политики. Для меня нет никаких ваших, никаких наших. Бог дал человеку жизнь, и моя обязанность сохранить эту жизнь для бога. Что может быть значительнее и почетнее такой гуманной миссии?
— Гуманной? — вскричал Терентий Федорович, опять потеряв власть над собой. — Вы говорите: гуманность? А когда этот бандит сжигает дотла хутор старика Гладявичуса, убивает на дороге библиотекаршу, совсем почти девчонку, мергяйте, — это тоже гуманность?
— Видит бог. — Тут ксендз поглядел на потолок. — Видит бог, я осуждаю зверства тех лесных людей.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

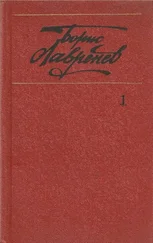
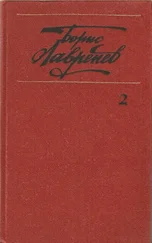




![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


