— Что же ты, черт паршивый, чуть было не вывалил меня, — обратился я к водителю аэроплана.
— А ты разве не привязывался? — спросил тот с удивлением.
— А ты говорил, что я должен привязываться?
— Так это же каждый пассажир должен знать.
— А я не знал. Да ты и сам не привязывался.
— Мне-то что. У меня в руках рулевое управление.
— Черт паршивый, — сказал я.
— Ну ладно, ведь не вывалился же, — миролюбиво проговорил он.
— Только и утешения, — сказал я.
— А я снимаю и никак не могу понять, — вмешался в разговор молчавший до этого Гриня. — Что это, думаю, мы еще не приземлились, а он уже ноги начал из самолета высовывать.
— Грузи своих баранов и чеши обратно один, — сказал я летчику. — Мы на поезде уедем.
Надо сказать, он с радости так нагрузился, что едва оторвал свой аэроплан от земли.
А мы с Гриней были радушно приняты в распростертые объятия директора совхоза, который давно уже поджидал нас, предупрежденный радиограммой из Ташкента. Мы удобно устроились в одной из комнат его квартиры, и жена его, молчаливо улыбающаяся нам, легко и бесшумно то появляющаяся, то исчезающая, не успели мы умыться, принесла на огромном блюде целую гору только что сваренной молодой баранины. Тех самых однодневных ягнят, которых здесь напропалую режут для каракуля и которых так расхваливал летчик во время нашего самаркандского перекура.
Летчик не соврал. И вообще это был славный малый, и я, кажется, напрасно придирался к нему и хотел поругаться с ним за то, что он чуть было не вывалил меня из своего самолета. Директор совхоза, сидевший с нами за столом и с любезной улыбкой наблюдавший, как мы с Гриней уписываем за обе щеки ягнят, рассказал, что этот летчик очень любит летать к ним в совхоз, особенно весной, во время окота, прекрасно осведомлен во всех совхозных делах и может сажать свою машину около совхоза хоть днем, хоть ночью, хоть в жару, хоть в холод.
Директора звали Давроном Юсуповичем. Он был строен, сухопар, легок в ходьбе, порывист и в гимнастерке, в мягких юфтовых сапожках больше походил на отчаянного кавалериста, чем на хозяйственника-администратора.
На хозяйственника-администратора отличнейшим образом походил Вадим Михайлович Юдин, с которым в тот же день познакомил нас Даврон Юсупович. Все в Юдине так словно бы и кричало, что ему непременно надо быть хозяйственником: и возраст, и солидность, и полнота, и молескиновая куртка, и легкомысленная кепочка, и волосатые галифе, заправленные в смазные пропыленные сапоги. Но Вадим Михайлович был ученым, известным специалистом по научному и систематизированному отбору и размножению племенных животных, кандидатом наук, заслуженным деятелем науки Узбекской ССР. Вадим Михайлович преподает в Московском пушном институте и каждую весну, вот уже десять лет подряд приезжает сюда, в дикую полупустынную степь Чрта-Гуль. Вадим Михайлович Юдин продолжает дело своего учителя, академика Иванова. Скоро и Юдин станет академиком, всего через несколько лет.
Это ведь он ввел племенной отбор ягнят, организовал строгий учет, доказал неправильность и вредность существовавшего ранее мнения, что приплод от первоклассных овец ничем не отличается от потомства овец низкого класса. Теперь за каждой яркой, за каждым бараном установлено наблюдение, и вся их родословная, чуть ли не с пятого колена, вписана в толстые тетрадки, хранящиеся в юртах у бригадиров и в канцелярии племхоза.
И многое уже теперь доказано. Прежде всего превосходство племенных первоклассных овец. Тысячи таких ярок и баранов, выращенных и проверенных по потомству, переданы совхозам и колхозам Казахстана, Украины, Крыма. А какие это ярки! Какие бараны! Бог ты мой! Вот хотя бы "Каракум один". Он с рождения до двадцати дней сохранил прекрасный завиток, блеск, шелковистость, а во взрослом состоянии имеет крупную конституцию, сухую, легкую голову, крепкий костяк. В его шерсти отсутствует и грубая ость и слишком тонкий пух. После машинной стрижки шерсть его становится волнистой и по своему строению аналогична валько-ватому завитку каракуля. Она распадается на поверхности туловища в той же закономерности, как завитки ягненка.
Все эти премудрости про знаменитого барана я выписал позднее из книжечки про племхоз, сочиненной и любезно предоставленной в мое распоряжение Вадимом Михайловичем Юдиным.
А в тот вечер мы с Гриней, Давроном Юсуповичем и Вадимом Михайловичем долго, до потемок, до звезд в высоком бархатном небе, до степного туманного холодка гуляли по главной усадьбе, состоящей всего из дюжины кирпичных двухквартирных домиков. Уже затарахтел движок, в распахнутых окнах зажглись желтые теплые огни, где-то включили приемник, и зазвучала далекая, очень странная и необыкновенно грустная здесь, в полупустыне, Шестая симфония Чайковского, адажио, то самое место, где плачет и жалуется на судьбу человеческую кларнет и вместе с ним горько, безутешно рыдают скрипки. Мы остановились и долго слушали молча, восхищенно, пока не пронесся с нарастающим гулом шагах в ста от совхозной усадьбы, выхватив из мрака три посеребрившихся в свете фар тополя над полузабытым полустанком, скорый из Ташкента и, промелькнув празднично освещенными окнами вагонов, не скрылся в густой степной темноте вместе со своим грохотом.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

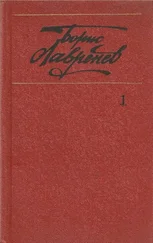
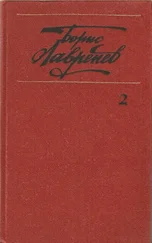
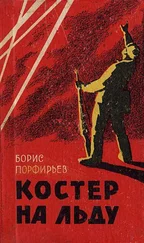

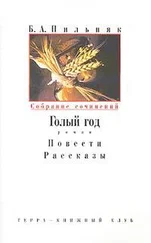

![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


