Миша, вновь обвесившись со всех сторон аппаратурой, вихрем вылетел из гостиницы и растворился в снежном мареве. Он пропадал чуть ли не весь день, носясь по городу и фотографируя аэросани на Двине, корабли во льду, закуржавленные березы, людей, прячущих лица от стремительных вихрей снега. Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что в тот день на весь Архангельск Миша Славин был единственным человеком, с лица которого не сходила радостная, блаженная улыбка, так он веселился по поводу налетевшего на город бурана. Но как на эту радостную физиономию смотрели архангелогородцы? Один, вероятно, с недоуменном, другие — с осуждением, а третьи даже, быть может, с опаской: черт его знает, что это за блаженный вдруг появился на городских улицах?
Ах, как он был кстати для нас, этот буран!
А теперь — скорее в Москву, в редакцию. Промедление смерти подобно. Билеты для нас заказаны завхозом обкома, забронированы в кассе вокзала, стоящего на том берегу Двины. Подхватываем чемоданы, переправляемся через реку на ледоколе, стучимся в окошечко кассы, выдающей билеты по броне.
Вы помните, дорогой читатель, когда мы покупали в комиссионном магазине чудо-оптику, то отложили деньги на билеты в мягком вагоне? Я тогда просил вас обратить на это особое внимание. Так вот, словно в отместку за то, что мы так по-телячьи ликовали целый день, нас на железнодорожном вокзале поджидала довольно печальная новость: один билет для нас был забронирован в мягкий вагон, а второй, к великому нашему изумлению, оказался забронированным в вагон международный. Все бы ничего, но я, помните, купил навагу, а Миша — эту самую чудо-оптику, и денег мы, помните ли, оставили в обрез, только на два билета в мягком и тридцатку на еду. Мы могли перебраться в любой вагон. Даже в бесплацкартный. Но все билеты давно были проданы. Все, кроме наших двух. Но разница стоимости мягкого и международного билетов "съедала" последнюю нашу тридцатку.
Что было делать? Мы с Мишей до того ошалели, что долго не могли произнести ни слова. Вернуться в город и уехать на следующий день? Но из гостиницы мы выписаны, наш номер наверняка уже занят новыми постояльцами. И нужны будут деньги на завтрак, на обед, ужин, на оплату жилья. Нет, этот вариант отпадает. К тому же нам надо спешить. В редакции нас ждут. Продать навагу? Но кто ее здесь купит? И надо же было мне, дураку, приобретать этих замороженных рыбешек, черт бы их побрал! Миша тоже хорош: оптику, видите ли, надо было во что бы то ни стало купить ему.
— Ну что? — остервенело спрашиваю я у своего спутника.
— Давай поедем, — печально предлагает Миша.
— Две ночи и день не евши, не пивши?
— Неужели не вытерпим? — с сомнением, однако, спрашивает он.
— Вот и я то же думаю.
— Давай постараемся, а? — Миша ласково глядит в мои злые глаза.
И мне становится почему-то неловко перед ним. Словно это я все подстроил: не только навагу, погромыхивающую в моем пустом чемодане, но и эту чудо-оптику и неожиданную чехарду с билетами.
— Поехали, — отрешенно машу я рукой. — На фронте бывало и похуже.
— Конечно, — обрадованно подхватывает Миша. — В вагоне и тепло, и спать можно сколько хочешь.
И вот — лиха беда начало — едем.
Я — в мягком, Миша — в международном.
Ночь прошла вполне благополучно. Как в мягком, так и в международном. Мы с Мишей преспокойно выспались вместе со всем населением поезда.
А утром я понял, что жестоко просчитался. Прогадал. Миша ехал не только комфортабельнее, чем я. Он ехал один в купе. А это при нашем положении давало ему немалое преимущество передо мной. Он, если бы захотел, мог в своем одиноком, купе волком выть с голоду, произносить трагические монологи, метаться из угла в угол, жевать поясной ремень, прыгать с полки на полку. Одним словом — творить любые чудеса, и никто бы его не увидел и не услышал. Но каково было мне, когда я ехал сам-четверт! Скоро я понял весь ужас своего положения.
Я проснулся не то от яркого солнечного слега, плотно забившего купе от пола до потолка, не то от оживленного громкого говора моих попутчиков, уже умывшихся, причесавшихся, прибравших постели. Теперь они готовились к самому главному — утренней трапезе и раскладывали на столике всяческие дорожные съестные припасы.
Общеизвестно, что человек, вырванный из привычных для него домашних условий и помещенный в купе железнодорожного вагона, тут же, как кролик, начинает торопливо есть все, что попадает ему под руку. При этом он съедает за один присест в три-четыре раза больше того, что он обычно съедает, находясь в домашних, привычных для него условиях. В вагоне он может запросто, не моргнув глазом, съесть пару куриц, десятка полтора вареных яиц, килограмм колбасы, столько же сыра, выпить стаканов пять чаю и, икнув от удовольствия, победно после этого оглядеться. Самые яростные приверженцы диетического, строго ограниченного питания, очутившись в железнодорожном вагоне, немедленно, в силу действующих в этом вагоне условных рефлексов, превращаются в преотличнейших обжор. А я не учел этого непременного условия всех железнодорожных переездов от Бреста до Владивостока, от Архангельска до… Короче говоря, я не учел, что, попав в вагон, автоматически становлюсь обжорой. Да еще каким — избранным. Обжорой без средств пропитания.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

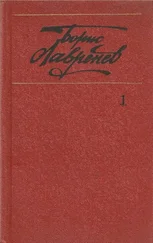
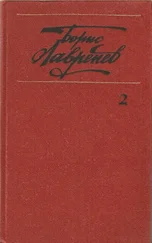




![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


