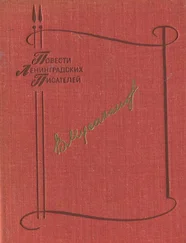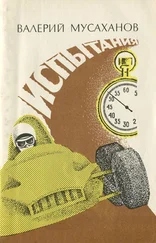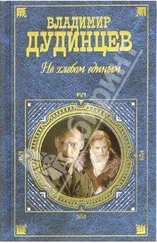— Да, ты уж не взыщи, Петр, что о твоем начальнике так… Здесь ведь свои, — понизив голос, сказал Киркин отец, и все смолкли.
Я задремал, свернувшись калачиком в уголке пахнущего пылью будуарного дивана. В коротком легком сне под шорох мужских голосов пришло ощущение укрытости, отпустила неизбывная бессловесная память о тех морозных апрельских хвощах и папоротниках на оконном стекле, о болезненной сладости кусочка рафинада, насквозь отравившей меня. И кажется, виделось мне в дремоте высокое синее небо в цветных хризантемах фейерверков, и праздничный гром исторгал освобождающий чистый вздох.
Я проснулся внезапно, увидел в верхней фрамуге глухое небо, почувствовал нехорошую тишину и в первый момент не смог осознать, где нахожусь, и лишь голос матери вернул меня к действительности.
— Тебе-то что? У него сын, как у тебя, он вынес свое. Эти руки и ноги тоже было нелегко отрезать.
Повернув голову, я увидел склонившуюся над столом мать. Под скулами на отрешенном, рассеянно-печальном лице лежали смуглые пятна. Полотенцем с синей каймой она протирала тарелки и складывала их стопкой. Тень ее рисовалась на стене над изголовьем уродливой кровати зыбким неясным пятном. Отец сидел за столом спиной ко мне, нервным быстрым жестом поднося папиросу к лицу и так же быстро отводя руку.
— Нет, — сказал он. — Ты просто не понимаешь. Ефрем завидует и порочит крупного человека. — Голос отца звучал необычно визгливо.
И что-то беспокойное, стылое возникло у меня в груди; инстинктивно защищаясь от еще неосознанного страха, я закрыл глаза, притворился спящим и так вошел в роль, что сонно и тупо мычал, когда мать подняла меня с дивана, чтобы постлать постель. А потом, когда погасили свет и ночная ломкая тишь наполнила мир, томительная холодная бессонница придавила меня на диване. Лишь изредка по неширокой нашей улице проходил автомобиль, и от света фар крестчатые тени оконных переплетов проплывали по стене.
Я лежал и думал о Буське с невнятным волнением и страхом. Нет, «думал» — это неверно, я впервые в жизни отделял себя от него и от Кирки.
С первых летних месяцев сорок второго года, когда прояснилось замутненное голодным психозом сознание, я не отделял себя от него и от Кирки; это было нечто вроде первобытной слитности с родом, когда еще не выкристаллизовалось отдельное человеческое «я». У нас все было единым, общим: мысли, желания, навыки, дистрофия. И вот, лежа в ночной темноте, я осознал свою отдельность. Нет, не осознал — самочувствие предшествует самосознанию, — я ощутил свою отдельность. Только что услышанные слова отца вдруг разрушили нашу с Буськой неделимость, я почувствовал свою душевную обособленность и впервые, быть может, познал одиночество. До этой ночи я, Кирка и Буська были нераздельным «мы», и вот в ломкой ночной тишине это «мы» расщепилось на «я» и «они». И долго я лежал в бессонной тьме, придавленный первым ощущением одиночества, покинутый на самого себя, и что-то ныло и ныло в душе, тревожно сжавшейся от бесприютности ночи… Разве мог знать я тогда, что это ощущение одиночества будет сопровождать меня всю жизнь…
Через два дня мне разрешили выходить на улицу, и, встретившись с Буськой, я бросился к нему в порыве горячего радостного чувства, первым побуждением которого было поделиться смутным и еще неосознанным, но тревожащим ощущением давешней ночи. Но что-то остановило меня, и с запылавшим лицом и странно споткнувшимся сердцем я стоял перед ним и бормотал бессвязные приветные слова. И я до сих пор не сказал Буське ничего, но ощущение душевного долга осталось на всю мою жизнь.
Я был обрадован, просто счастлив, когда, вернувшись из своих одиссей, застал Буську преуспевающим и счастливым по его собственным меркам. Быть может, это хоть как-то высвобождало, ослабляло чувство той невнятной вины, испытанное в детстве, и было что-то покаянно-искупающее в моем бедственном положении только что освобожденного, нуждающегося в дружеской помощи.
И быть может, это, за давностью лет глубоко упрятанное, загнанное в беспамятность чувство душевного долга заставляло меня в последние годы пристально вглядываться в Буську, радуясь его вкусу к жизни, и одновременно испытывать смешанное с завистью разочарование, что нет в нем никакого надлома, нет боли безответного, бессловесного вопроса, который ноет почти в каждом, кого хоть раз ударила судьба.
Он был неподдельно, хотя и несколько примитивно счастлив. В его золотисто-карих глазах мерцал незамысловатый и веселый огонек жизнелюбия, упрямый, хитренький и жадный, — тот огонек, в котором сконцентрировалась вся жизнестойкость его предков. Со своей курчавой темно-каштановой бородкой, выделявшей яркие, красивой лепки чувственные губы, Буся чем-то напоминал игривого, задорного эрдельтерьера, принадлежащего добрым хозяевам. Только иногда, лишь изредка, в нем на краткий миг вдруг прорывалась беспредметная ветхозаветная печаль. Тогда его смуглое лицо сразу старело, резче выглядывали семитские черты, в них проступала отрешенная мудрость — надындивидуальная память, которая, по-моему, скрыта в каждом человеке.
Читать дальше