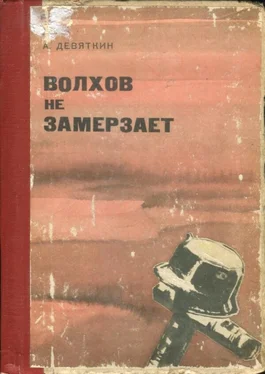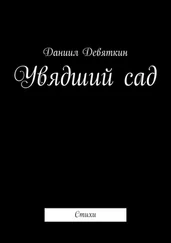Нина Павловна бросилась к сыну. Шпицке ударил женщину. Она удержалась на ногах и, шатаясь, приблизилась к мальчику.
Мысль, что удар повторится, ужасала его. Руки скользили. Но не мог же он показать этим гадам свою слабость.
Шпицке вошел в раж. Сейчас он покажет свой темперамент. Но опять что-то придумал Сединг — музыкант с лицом пастора. Он вызвал Молоткова. Тот слушал, посматривая на учительницу, и сказал:
— Яволь.
Вероятно, это он прислал детину с простым деревенским лицом и белой повязкой полицейского на рукаве. Сединг подал ему плетку.
— Она тебя учила, что мысль не боится силы. Научи ее понимать жизнь.
Учительница знала этого здоровенного парня еще мальчишкой. Она подстригала ему волосы ножницами, как и всем лохматым ученикам. Она защищала его от отца-пьяницы.
— Фораус! — нетерпеливо крикнул «папаша Пауль».
Молодой полицейский медленно, тяжело обернулся. Пригнув лохматую голову, сделал два шага и с отчаянием в застывших глазах замахнулся…
Что страшное он увидел во взгляде женщины? Ничего. Только презрение и жалость. Он выронил тяжелую плетку. Его будто пронизал ток: склонилась голова, сжались плечи, подкосились колени, и парень, содрогаясь в беззвучных рыданиях, распластался у ног своей учительницы.
Трайхель встал, одернул задравшийся на животе мундир: это уже неинтересно…
Женщин и Мишу перевели в амбар — станционный пакгауз. Промерзшие петли взвизгнули, двери закрылись, все погрузилось во мрак.
Женщины разместились вокруг матери с сыном. Простые крестьянки хотели показать, как дорога им учительница и как они понимают ее материнскую муку.
Сидели, скорчившись, поджав колени к животу, мучаясь от холода. Короткие сны изматывали — это тоже была тщательно продуманная пытка. Между собой говорили мало. Все мелкое, незначительное, что раньше занимало умы, отошло. Во тьме бесконечной ночи вспоминали о пережитом — больше о хорошем: как росли у отца с матерью, как молодыми вошли в дома мужей, как поднимали на ноги детей; вспоминали мысленно ближние лески, речонки, болота; вспоминали последнее расставанье с мужьями. Живы ли? Не покалечило ли на фронте? Больше всего думали о детях.
С трудом открылась амбарная дверь. С силой втолкнули высокую женщину в платке и жакете. Она упала. Лежала тихо и плакала. Приподнялась на колени, утерла лицо. Тогда увидела, что не одна в амбаре.
Заключенные узнали Занину из Городца. И каждая, словно соразмерила свое горе с ее горем, если только страдания человеческие знают меру.
— Анна Кузьминишна!
— Голос вроде знаком. — Занина, осторожно ставя ноги между сидящими, пошла на зов. — Нина Павловна! Родная! Где довелось свидеться!
Простой человек стыдится выражать свои чувства открыто. Женщина говорила тихо-тихо, будто только самой себе.
— …Ноченьку дома провела. Их ведь у меня семеро. Младшенькой четвертый пошел. С каждым поговорить надо, наставить… Старшенькой сказала: «Научи ребятишек русской грамоте». И еще говорю: если не вернусь, а наши вернутся — а они обязательно придут, — скажи, как погибла мать. — Застеснявшись непривычных слов, сказала совсем просто: — Гитлеряги караулят, чтоб не сбежала, значит, а я что могла по хозяйству справила…
Кто-то в темноте вздохнул:
— Мы уж и не увидим, как они вернутся, родные…
— Дети увидят.
Наступило долгое молчание.
— Разве у нас был другой выбор? — произнесла вслух то, что думала, Мария Михайловна. — Если мы такими родились… Если мы хотели остаться самими собой…
Как и всех матерей, ее мучила мысль об оставленных детях.
Однажды через стены проникли неясные детские возгласы. Миша встрепенулся, стал прислушиваться. Мать прижала его к груди: не хотела, чтоб о себе напоминала жизнь по ту сторону камней, боялась, что это расслабит волю. Видно, все должно быть под силу матери, даже заранее готовить сына к смерти.
Но Миша не думал о смерти. Он твердо знал, что в самый последний момент их обязательно спасут: так было во всех прочитанных книгах. В беспокойном сне к нему приходил Неуловимый. Он, как всегда, говорил неторопливо, убедительно, весело, но что — Миша не мог разобрать.
А Таня пела. Она пела песню за песней. И ту, которой баюкала ее мать, и те, что распевала с подружками, и те, что переняла от много поживших на свете людей. И пела еще любимую «Летят утки» — про неспетую свою любовь.
В третью ночь по земле прошел короткий гул. Дрогнули каменные стены. Крохотная надежда — ей нельзя было поддаваться, нельзя! — вошла в сердца людей: «Это наши бомбят! Идут наши…»
Читать дальше