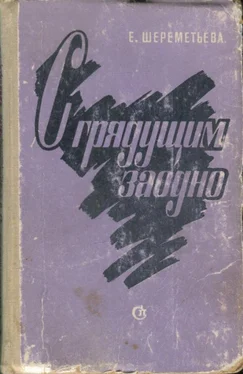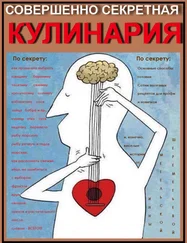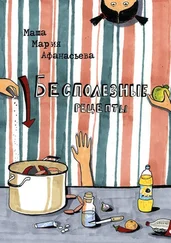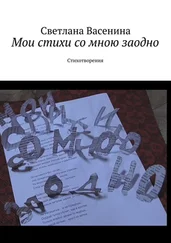Усатый швырнул папаху на стол, сел развалясь против Дубкова. Хлопцы неловко стянули треухи и сели у стены, ближе к двери.
Виктория, в стороне от стола, не попадала в круг света, и пьяные, очевидно, ее не заметили; ей было отлично видно всех. Мутно-шалые глаза усатого исследовали Дубкова. Громко, но не крикливо, он повторил:
— Ты эт-та ревком Дубков?
— Я — Дубков, член губревкома.
— А я — Лубекин, — покачиваясь на стуле, сказал усатый. — Слыхал?
— Слыхал. За Тымом отряд партизанил. — Дубков открыл ящик стола, убрал папку. — Как же это сегодня молодцы твои опозорились?
Лубекин грудью налег на стол, потянулся к Дубкову, глаза светлели от злости:
— Ты какое такое слово сказал: опозорились?
— Пьянство, бесчинство — позор для красного воина. А ты как думаешь?
Лубекин зажмурился, невнятно забурчали его спутники, и он, будто готовясь к броску, отшатнулся от стола, вытаращил глаза:
— Мы всю войну отмантулили, а ты, крыса, в подполье прятался и смеешь мне такие слова? — Повелительно тыча левой рукой в стол, заорал: — Пиши приказ: моих соколов тот же час выпустить! — правая рука легла на кобуру.
Бежать, позвать? А если он в это время?..
— Тихо, Лубекин. До завтра от соколов твоих не убудет, проспятся…
— Пиши приказ!
— Утром придешь трезвый — поговорим…
— Пиши, я тебе сказал!
— И я сказал.
— Да ты… Да как? Да я тебя…
Батько не видит нагана.
— Не дури, Лубекин.
Батько! Левой — наган, правой — за горло, — бросилась. Выстрел ударил в уши, в плечо, намертво вцепилась в щетинистую шею, толчком опрокинула его со стулом, упала сама, не отпустила горла… Почему левая рука ватная? Гремит батькин голос:
— Не шелохнись, убью!
Кто стреляет? Грудью на руку с наганом. Пальцы воткнуты глубоко в шею — задушила? Кто стреляет?
Голоса, крики, топот, возня.
— Отпусти, Витя, отпусти.
С трудом разжала пальцы. Кто-то помог встать. Народу сколько. Звон в голове. Утаскивают желтый полушубок. Платье в крови. Батько с револьвером.
— Это вы стреляли?
— Куда он тебя? Садись, дочка. Плохо? Сейчас носилки, в госпиталь быстро.
— Я дойду, я сама. Задушила я?
— Живой. Сиди пока. Где рана?
— Рана хорошая.
— Чего уж хорошего?
— Я же знаю, я медик. Крови мало, и не болит.
— Откуда сила взялась?
— От массажа. Я ведь… — говорить стало трудно.
Нащупала в темноте крюк, открыла дверь и вышла на крыльцо вместе с товарищами Руфы.
— Вызвездило как! И месяц нежный, изящный. А теплынь-то, а воздух! Говорят еще: суровая наша Сибирь! — Голос у Беляева низкий, бархатный и мужественный, напоминает отцовский, и с первой минуты расположил к нему.
— Она все-таки суровая, ваша Сибирь, но чудес в ней больше, чем во всех сказках мира.
Тонечка, узенькая, будто сделанная из тонких палочек, тоненько засмеялась:
— А для меня все самое-самое обыкновенное.
— Привыкла. И ничего другого не знаешь. У тебя, душа моя, удостоверение с собой? Ну, покатили.
Грузноватый Беляев зашагал широко, Тонечка засеменила рядом, стуча каблучками. На углу они остановились; глядя в переулок, Тонечка взмахнула палочками-ручками:
— Посмотри, Витя, красота-то, красота!
Виктория сбежала с крыльца. Сколько раз вот так же ночью, и утрами, и на закате стояла здесь с ним. И к лодке здесь ходили, и к Дубковым… «Как белый камень в глубине колодца, лежит во мне одно воспоминанье…»
— Ну, мы потрусили!
— Да, да! — помахала рукой, посмотрела им вслед и пошла переулком к реке.
Блестит лунная дорожка, разбрасывает по темной воде серебряно-желтые пятна. Дальний лес клубится — это тени летящих облаков. А Енисей раза в три шире, а то и больше. Сколько увидела за поездку. Весенняя степь, поляны, цветы яркие и сильные. Красные горы с зелеными переливами — Красноярск. Отвесные серые скалы — знаменитые «Столбы». Кедровники. Высоко на скалах березки, тонкие и нежные, как травинки. А травы, папоротники — куда выше человека. Сколько увидела, сколько узнала, сколько поняла… «Как белый камень…»
Полгода. Уже поставили ограду и положили на холмик темно-красный плоский камень (сама нашла его в Енисее, а привезли в вагоне с декорациями). На нем высечено: «Унковский Станислав Маркович. 1886–1919 г. Погиб в бою за власть Советов». Надпись Журавлев сделал, художник из театра, тоже друг Руфы. Подробно рассказал о последнем дне Осип Иванович. Будто сама была с ними. А все-таки… Может быть, правду говорят: лучше, что не видела неживого? Только… теперь уже редко, а сначала все думалось: вдруг не он? В поездке было легче, иногда совсем легко. Когда много работы… И эти никогда нигде никем не виданные спектакли в закопченных депо, в огромных мастерских. Черные стены, черный высокий потолок — на стальных опорах — не виден даже. Зрители тесно сидят на скамьях — досках, положенных на чурбаки, стоят, висят на фермах, на паровозах и не шелохнутся. В черноте, как чудо, яркая маленькая сцена. И свет и жизнь ее отражаются на лицах зрителей. Их чуткость, бережность к этой жизни — тоже чудо. Ничему не помешать, ничего не упустить. В Художественном публика бывала холоднее. Нет, удивительные люди… Впервые видят сцену, театр, а…
Читать дальше