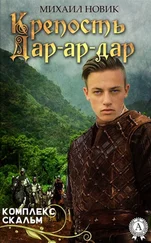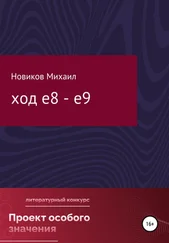— Еще немного помучаемся, — сказал Макс, — с собакой теперь. Торквил!
Пес подошел.
— Ах, красавец, — сказала Альма.
Пес обнюхивал ее.
Вдруг сильно и настойчиво застучали в дверь.
Ягофаров пошел открывать.
Он возвратился в сопровождении милиционера и двух мужчин в серых пальто с повязками дружинников.
Увидев Альму и рядом с ней собаку, они замерли.
— Минуту, — сказал Макс девушке и подошел к милиционеру. — Что? — спросил он. — Опять тревожный сигнал?
— Да, — согласился милиционер.
Ягофаров, стоящий чуть в стороне, включился:
— Звонят, да? Все та же старуха? Групповые оргии?
Милиционер сокрушенно кивал.
— Слушайте, сержант — сказал Макс. — Это ведь вам звонит сумасшедшая! У нее сенильный психоз, понимаете? Что вы ходите к нам зря? Она вам будет звонить каждый раз, когда кто-то из нас будет приходить сюда с женщиной — с любой, хоть с матерью. Поберегли бы свое время!
— Мы обязаны проверить, — оправдывался милиционер.
Он, как и дружинники, не отрывал глаз от девушки.
— Проверили? — спросил Ягофаров.
— Что? Да.
— Ну, так ступайте!
— Что? Да… До свидания, — и милиционер пожал руки сначала Максу, потом Ягофарову, потом протянул было одному из дружинников, но опомнился и тряхнул головой. Смотрел он по-прежнему на Альму.
И когда они выходили, громко вздохнул.
— Все, — сказал Макс, закрыв за ними дверь, — на сегодня хватит, Я устал… Да еще эти… Все настроение собьют…
— Ты сам виноват, — сказал Ягофаров. — Я тебе говорю: давай сделаем штору в мансарде. И старуха успокоится…
— Ты прав, друг Горацио…
Девушка играла с собакой.
— Ах, черт! — сказал Ягофаров. — Это надо снимать, это движение… Ну, в следующий раз…
Когда Альма надевала пальто, Макс подошел и протянул ей купюру — двадцать пять рублей.
— Вот, — сказал он, — так мы платим. По часам. Устраивает?
Девушка смотрела на него и молчала.
— Когда вам удобнее звонить? Утром? Вечером? — спросил он.
— В семь, — сказала она.
— Кстати, — спросил Ягофаров, — ты читала Кортасара?
— Никогда.
Она ушла, а Ягофаров и Макс еще выпили кофе.
— Видишь, старик, — сказал Макс, — что-то из нее должно получиться, это не Гаврилова…
— Гаврилова вообще дура, — вяло заметил Ягофаров.
— Крыса, — сказал Макс.
Потом он спустился двумя этажами ниже — в том же подъезде, где и мастерская, у Макса была комната в коммунальной квартире.
Покормил Торквила, погулял с ним и отвел хозяевам.
А Ягофаров еще ехал в троллейбусе — длинным проспектом, до площади Эволюции, где у него тоже была комната в коммунальной квартире.
КОНЬКОВО, ТИХАЯ ИХ РОДИНА
(Рассказ о книге стихов)
Тягостнейшая из линий московского метро, оранжевая, привозит долготерпеливого пассажира в края, густо заселенные интеллигенцией. Помимо мужей науки здесь поселен всемогущими советскими коммунальными божествами целый взвод знаменитостей отечественной контркультуры конца семидесятых, и среди них, в частности, поэт Тимур Кибиров. Места эти странны, как и упомянутая ветка метро, — что-то неизменно мертвящее есть в благополучном на первый взгляд пейзаже. Эта помоечная белизна домов, этот ветреный простор улиц. Район, однако же, согласно необъяснимым московским котировкам, считался «неплохим» — оставалось только привыкнуть. Отсюда если уезжали, то уж за границу, насовсем.
Не стоило бы предварять заметку о книге стихов расхожей топографией, не будь кибировские тексты так насыщены упоминаниями о Беляеве, Конькове и иных гиблых и как-то насильно и незаслуженно, на взгляд непредвзятого визитера, любимых автором местах. Пожалуй, и со временем у Кибирова та же незадача: не сказать, что советская одурь выходит у него как-то лучше, но смачней, уж точно. По сути, все, что происходило далее, все, выражаясь высокопарно, постсоветское время сведено у Кибирова к «щей горшок, да сам большой». И это, кажется, общее место для поэтов «московского времени», к которым если не литературно, то биографически тяготеет Кибиров.
Вспоминательное усилие дается Кибирову легче и удается лучше — и советская страна былых времен предстает волшебным лесом, вполне абсурдистским, но от того только более занимательным. В известной мере повторяя урок другого обитателя Юго-Запада, Владимира Сорокина, Кибиров вводит в обольстительную поэтику совка русскую классику и, в частности, Серебряный век: «Пусть не черная роза в бокале, а красный “Солнцедара” стакан и сырок, но излучины все пропитались прекрасно, льется дионисийский восторг». Собственно, в этой цитате виден и прием, и небрежность исполнения. С иронией все понятно — что ж, «Солнцедар» и вправду смешон сам по себе, sapienti sat. А вот насчет излучин — строчка будто забралась из Пригова, у которого (в его программной, стахановской графомании) была бы совершенно уместна.
Читать дальше
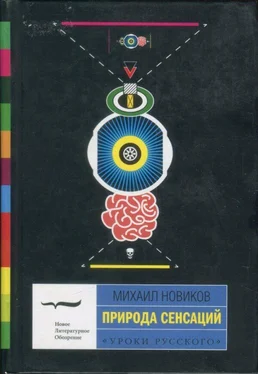
![Михаил Новик - Водяное колесо [СИ]](/books/27148/mihail-novik-vodyanoe-koleso-si-thumb.webp)