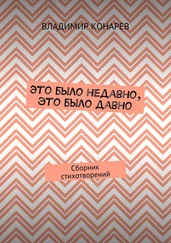* * *
Поздний весенний вечер.
У большой деревянной плотины на реке Василий и я ставим донные удочки там, где падает с плотины вода. За омутом, наполовину покрытым полыньей тающего льда, виден ольховый мутный лес, и ели темными пятнами выделяются среди седой ольхи.
Темная вода у берега, и наши удочки, воткнутые в берег, с привязанными наверху бубенцами на леске, выделяются на темной воде. На потухшем вечернем небе, как круглый щит, показался красный месяц.
Внизу на удочке зазвенел бубенчик, и Василий быстро побежал по бережку. Подойдя к нему, я увидал, как он снимает с крючка большого темного налима, который вертится в его руках. Василий молча посмотрел на меня, важно, и опустил садок с налимом в реку, привязав сетку за сучок ольхового куста. Мы оба тихо сели на бережку. Василий закурил папиросу, я тоже. На плотину пришел мельник. Облокотившись, смотрел на нас.
— Эку рыбину-то вы поймали, налим… Нешто его едят?
— А как же, — сказал я.
— Не-е… Это ведь не рыба, у его чешуи нету, он гладкой. А вы православные?
— Православные.
— Мы не едим. Православные то есть. Я ведь тверской, у нас никто не съест. Чего ж, он чисто черт…
— Да что вы, это самая лучшая, самая вкусная рыба.
— Ну какая это рыба. Какая рыба тут: трава и трава. Скусу нет. Осетрина, севрюга — вот рыба, а это што… Этого-то налима съесть грех. У нас одна съела баба его, а у ей язык по пояс и вырос… Ведь это што. Мужнина жена. Вот тот тосковал, убивался, никак его назад-то не засунешь — велик больно. Как быть женщине, подумайте, ведь в ей, в женщине-то, красота должна заложена быть, а куда она с язычищем-то этаким… Вот ведь што налим-то етот.
— Это вот месяц вышел ни к чему, — сказал Василий, — помешает ловить. Не любит налим месяца.
— Хорошая будет ночь, — говорю я, — эдакая красота — весенняя ночь и тепло…
— Да… — говорит Василий, — хорошо… Вот хоша месяц взять, а к чему он, чего от его есть? Ну, солнце… Вся жисть от его идет, от солнца. А месяц на что?
— Месяц, Василий, тоже нужен. Есть в нем что-то. Душе он говорит. Песни-то про месяц ведь все поют. Колдун он: человека все куда-то зовет, любовь он зовет в человеке. Он чувство дает такое, которое купить нельзя… Понимаешь?
Василий помолчал, закурил. Потом сказал:
— Это вы верно. Месяц зовет…
* * *
— Ну и дом у него. Особняк. Архитектор Шпехтиль [19] архитектор Шпехтиль — имеется в виду архитектор Франц (Федор) Осипович Шехтель (1859–1926), представитель стиля «модерн». Осуществил перестройку Московского Художественного театра (1902), построил дом Рябушинского на Малой Никитской улице (1900) и здание Ярославского вокзала (1902).
строил. Конюшни тоже, все в стиле, как этот стиль-то называется — забыл. Все по последней моде. Был я у него, ну прямо роскошь. Достал он это из стеклянного шкафа бутылку и наливает мне. Я ему говорю: «Не могу, — говорю, — Тимофей Саввич…» — «Что так?» — «Да ведь говею я, не подходит это теперь, спиртное…» — «Вот что… да…» — «А вы-то, — спрашиваю, — Тимофей Саввич, говеете?» — «Нет, — говорит, — в гласные баллотируюсь [20] …в гласные баллотируюсь… — гласный — до революции 1917 г. член городской думы, земского собрания (уездного или губернского).
, некогда… Да и скажут: говеет… А теперь прогрессивное, говорят, настроение, так сказать, освободительное движение на полном ходу. Москва, как Галтимор, первая к старту прет» [21] «…Москва, как Галтимор, первая к старту прет» — имеется в виду орловский рысак Галтимор, победитель в скачках Большого Всероссийского приза 1903 г. Дерби проводилось на московском Ипподроме.
.
— Очень интересно это, — говорю я ему, — а от чего, — спрашиваю, — вы освобождаться будете?
— Трудно это объяснить… — говорит он мне. — От многого освободимся. Впереди надо ждать: до автономной Московской республики докатимся.
«Их куда, — думаю, — заворачивает…»
— Да, — говорю ему, — тяжести большие на себя возьмете. А вот охрипши что-то вы, знать, простудились?
— Нет, не простуда у меня, — это от речей. Говорить много приходится. Вот Чентоков привык… говорит и говорит, чисто за прилавком аршином ситец отщелкивает. Спакович тоже мастер говорить. С маслом шампанское с утра пьет. А я с маслом не могу. Отрыжка берет. Говорить начнешь, а икота одолевает. Демосфен, говорят, оратор греческий, камни в рот в этом случае набирал. Ну, дак это греки. А я пробовал, набрал голышей в рот — ничего не выходит. С одним вот камешком во рту и то ясно не скажешь, положим: «космополит» или «эмоционально»… Ни черта не выходит…
Читать дальше