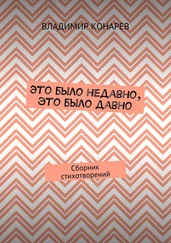* * *
Фигнер все же пел в своем костюме.
После новой постановки оперы «Демон» пресса писала, что «костюм Синодала, сделанный по рисунку Коровина, — декадентский».
— Странно… — сказал директор В. А. Теляковский. — Так много говорят о постановке «Демона». А когда в прежней постановке «Демона» грузины почему-то были все в турецких фесках на головах, а горы были чуть ли не швейцарские — все молчали. А теперь все говорят и все ругают вашу постановку. Даже барон Фредерикс, и тот почему-то беспокоится… Спрашивает меня: «Неужели грузинки ходили в шароварах? Не странно ли?» — Теляковский рассмеялся. — И притом: все ругают, а театр полон…
* * *
Мой слуга, чеченец Ахмед, удивился, когда с него сняли костюм, который он примерял. Он думал, что ему его подарили…
Он очень огорчился, сказал мне грустно:
— Хороший город Петербург, генерал многа, начальник многа, всего многа… но гора нет… Скучно ро-о-овно… Как без гора жить…
И добавил:
— Зачем Демон? Такой человек нет Кавказ…
Василий Харитонович Белов с сердцем сказал ему:
— Чего ваш Кавказ? Ежели взять у нас в Москве Царь-пушку, да ее на гору поставить, да ах! тогда все, все вы, черкесы, что ни на есть, што скажете? А?
Мой чеченец промолчал. Но как-то сказал Василию Белову:
— Ты думаешь, моя дурак одна. А твоя тоже дурак…
* * *
Мой слуга-чеченец заскучал. Пришел он ко мне как-то утром и говорит:
— Твоя — друга моя. В полицейский участок была, начальник многа ругал меня. Пашпорт нет, кинжал не можно носить никак… никак нельзя… Пистолет нельзя, никак нэ можно. Пистолет — тюрьма сажает… Прощай, — сказал он мне, наклонив голову. — Я назад пойдет…
И я увидел слезы в его глазах.
— Пускай Кавказ меня. Твоя — моя один Аллах. Прощай, твоя друга. Твоя — вот хорош. Моя правда говорит. Пускай меня Кавказ… Скушно мне… Всего многа, Петербург харош, гора нет… Скушно… Ну што тут, нэ можно жить без гора, скушно…
Он собрался в отъезд. Я вечером провожал его на вокзал. Купил ему билет. Деньги в сумке на шнурке велел надеть на шею, под бешмет. «А то, — говорю ему, — украдут у тебя…»
Прощаясь со мной, он крепко обнял меня за шею руками, сказал:
— Прощай. Чечен не может здесь жить… Такой человек — не виноват… Прощай!
И, поцеловав меня в лоб, он заплакал…
Москва постится. Медленно и протяжно разносится по Москве колокольный звон. Уныло, вроде покаянного… Тройки уже не несутся лихо по Тверской-Ямской в загородные рестораны. Москвичи говеют. Старушка богомольная несет в руках просфору от обедни. Все как-то пристойно, сосредоточенно — Великий пост…
— Ты, Петр Гаврилыч, у кого говеешь?
— У Варфоломея, в Зарядье.
— Эка ты!.. Ну, что… Ты бы у Савватия попробовал. Вот строг. Что Варфоломей! Савватий за пост сразу берется. Спросит: «Балык ешь?» — «Ем», — говорю. — «Головизну ешь?» — «Ем», — отвечаю. «Чем водку закусываешь?» — «Разно, — говорю, — семгой, снетками, белорыбицей, кильки ревельские, ну, огурчики…» — «Это, — говорит, — не пост, а безобразие…» Строг Савватий.
— Да-с… А Варфоломей — насчет женского полу пытает: как и что? Варфоломей-то говорит — на этом самом месте вся основа существа есть и честь человеческая утверждается. Ну, и насыпет, ух, насыпет — только держись… Едешь от него, так в нутре выворачивает. Верно, все верно. Ну, и думаешь о себе: ну и сукин же я сын!..
— А меня как-то сомнение берет, — говорит Петр Гаврилыч. — Сам не знаю, что, она тебя хвостом завертывает на это самое или ты ее? Ты сюды это от ее, Иосифом Прекрасным прикинешься, а глядишь — и влип. До чего эта слабость в человеке положена, до ужаса. В удивленье потом приходишь, сам себе не веришь.
* * *
Прасковья Ивановна пьет чай с постным сахаром, морщится и вдруг заливается слезами:
— Это все она, Анфиса Петровна… Сахар-то керосином отдает. Это она накапала в сахар мне… керосину… она… Она меня возненавидела за воротник соболий. А у ней куний.
Сидящая перед ней старушка-богомолка, желтая, худая, вздыхая, говорит:
— Матушка Прасковья Иванна… а может, это Дунька ненароком, с бутылкой керосинной сахар тащила из лавки. Ведь она девка-глупыш, может, она…
— Нет, нет, — отвечает Прасковья Ивановна, — это Анфиса Петровна. Уж я знаю, матушка, что она. Она мне это самое позапрошлый год, тоже этак-то в посту… Была у меня; в лампады воды подлила. Зажжешь, а они трещат, вот трещат — спать не дают… Тогда она меня за платье голубое, шелковое, с кружевцами… Вот уж она меня тогда оглядывала. И в лампадки воды-то налила… Ну, теперь погоди. Теперь я себе шляпку на весну заказала у Ламановой [16] …шляпку… заказала у Ламановой — Ламанова Надежда Петровна (1861–1941), знаменитый модельер. Получила признание не только в России, но и в Европе. Много работала для театра и кино. Ее коллекция костюмов XVII–XX вв. хранится в Государственном Эрмитаже.
. Из Парижа, по фасону. Погляжу теперь, как она завертится… Морозихе тоже нос утру… Да непременно Сергею Ликсеичу скажу, чтоб автомобиль нам завел. Буду мимо дома ее в Рогожской разъезжать да из него ей ручкой так вот любе-е-зно раскланиваться, в перчатках… Ух, грехи… Но Анфисе докажу.
Читать дальше