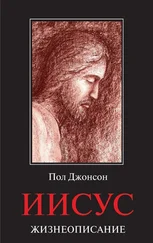Но это было не важно. Мое лицо было меньше чем в полуметре от ее лица, но на улице было темно и видеть она могла только свое отражение, не меня. Она была в спальне одна. Вся ее одежда по-прежнему была на ней. У меня сердце забилось чаще – так же, как бывало, когда я видел одиноко припаркованную машину с гитарой или замшевой курткой на переднем сиденье и думал: ведь кто угодно может подойти и взять.
Ее лицо не было освещено, и я не мог хорошо ее разглядеть, но было похоже, что она чем-то расстроена. Мне показалось, я слышал, как она плачет. Я мог бы дотронуться до слезы на ее щеке, так близко я стоял. Я был уверен, что она не увидит меня в темноте, если только я не буду двигаться, так что я стоял не шевелясь, а она рассеянно подняла руку к голове и сняла свой маленький чепчик. Я всматривался в ее темное лицо, пока не убедился, что она горюет – она кусала нижнюю губу, смотрела перед собой и не вытирала слез, которые катились по щекам.
Примерно через минуту в комнату вернулся ее муж. Он сделал несколько шагов и застыл, как боксер или футболист, который пытается идти с травмой. Они поссорились, он раскаивался; это было ясно по тому, как он стоял там со словами, застывшими на губах, будто протягивая ей свое извинение. Но она не оборачивалась.
Он прекратил эту ссору, опустившись перед женой на одно колено и омыв ей ноги.
Сначала он снова вышел из комнаты и скоро вернулся с желтым пластмассовым тазиком для мытья посуды, он нес его осторожно, и было понятно, что внутри плещется вода. На плече у него висело кухонное полотенце. Он поставил тазик на пол и, склонив голову, опустился перед ней на одно колено, как будто делал ей предложение. Некоторое время она не шевелилась – наверное, целую минуту, которая показалась очень долгой мне, стоящему снаружи в темноте со своим одиночеством и ужасом перед жизнью, которой я еще и не жил, среди телевизоров и разбрызгивателей, шумящих тысячей жизней, которых я никогда не проживу, и звуков машин, проносящихся мимо, звуков движения, не коснешься, не поймаешь. А потом она повернулась к нему, сняла тенниски и по очереди стянула за пятку свои белые носочки. Сначала она окунула в воду пальцы правой ноги, потом опустила в желтый тазик всю ступню, так что я уже не мог ее видеть. Он снял с плеча полотенце и, не поднимая на нее глаз, стал мыть ей ноги.
К тому времени я уже расстался со своей средиземноморской красоткой; у меня была новая девушка, она была нормального роста, но хромая.
В детстве она переболела летаргическим энцефалитом. Половина тела перестала ее слушаться, как при инсульте. Левой рукой она почти ничего не могла делать. Она могла ходить, но ее левая нога волочилась и она перекидывала ее вперед после каждого шага. Когда она возбуждалась – это особенно проявлялось, когда мы занимались любовью, – ее парализованная рука начинала трястись и взмывала вверх в чудесном салюте. Она принималась ругаться как матрос, той стороной рта, которая не была парализована.
Я оставался в ее квартире-студии раз или два в неделю, до самого утра. Почти всегда я просыпался раньше нее. Обычно я работал над новым номером «Новостей Беверли», а снаружи, в прозрачности пустыни, обитатели жилого комплекса плескались в крошечном бассейне. Я сидел за ее обеденным столом и, сверяясь с записной книжкой, писал: «Обратите внимание! В субботу 25 апреля, в 18:30, группа из Толлсонской Южной Баптистской церкви устроит для жителей „Беверли“ библейское представление. Должно быть интересно – не пропустите!»
Некоторое время она валялась в постели, стараясь не проснуться окончательно, цепляясь за тот, другой мир. Но потом она поднималась и ковыляла в ванную, наполовину обернувшись простыней и волоча за собой взбрыкивающую ногу. В первые минуты после пробуждения ее паралич был сильнее обычного. Это выглядело нездорово и очень эротично.
Когда она вставала, мы пили кофе, растворимый, с обезжиренным молоком, и она рассказывала мне о своих бывших. Никогда не слышал, чтобы у кого-то их было столько, сколько у нее. Большинство из них умерли молодыми.
Мне нравилось сидеть с ней утром на кухне. И ей нравилось. Обычно мы были голыми. Что-то загоралось в ее глазах, когда она говорила. А потом мы занимались любовью.
Ее диван-кровать был в двух шагах от кухни. Мы делали эти два шага и ложились. Нас окружали призраки и солнечный свет. Воспоминания, те, кого мы когда-то любили, – все смотрели на нас. Один ее парень погиб под поездом – у него заглох мотор на переезде, и он был уверен, что успеет завести его раньше, чем в него врежется локомотив, но ошибся. Другой обломал тысячу вечнозеленых веток, пока летел вниз где-то в горах Северной Аризоны, и разбил себе голову – он был лесовод или кто-то вроде того. Двое погибли, служа в морской пехоте – один во Вьетнаме, а второй, совсем юный, в таинственной аварии, в которой не было других участников, едва прошел обучение. Двое были черными – один умер от передозировки, другого пырнули в тюрьме заточкой – это что-то вроде самодельного ножа. Большинство из них ушли от нее по своей одинокой тропе задолго до того, как умереть. Они были такие же, как мы, только им меньше повезло. Меня переполняла сладкая грусть, когда я думал о них, лежа рядом с ней в маленькой, залитой солнцем комнате – мне было жаль, что они никогда больше не будут жить, меня опьяняла эта грусть, мне было мало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу