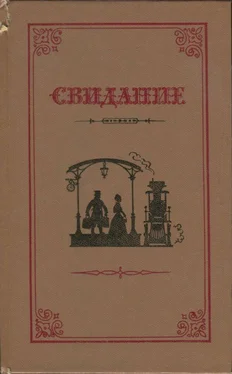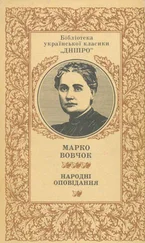— Ну, заболталась! — вскричала Настасья Ивановна, но не сердито. — И понять-то ничего нельзя.
— Все понимаете, а принуждать меня не станете, если не захочу, я ведь знаю, — сказала Оленька. — И пожалуйста, перестанемте говорить обо всех этих дураках.
— Пожалуй, — отвечала Настасья Ивановна покорно, а больше рассеянно. Ее мысли опять ушли на другое. — Ведь Анна Ильинишна ничего не ела сегодня, Оленька?
— Что?
— Надо бы узнать… стороною.
— Опять за свое!
— Ну, ну, не буду. Не стоит она, — сказала Настасья Ивановна, опять рассердясь.
— Утешьтесь, с голоду не умрет. У нее целый короб пряников. Сама слышала, как грызет…
Следующий день прошел в Снетках еще замысловатее. Анна Ильинишна не вкусила опять ни хозяйского чаю, ни трапезы. Но так как голод — не свой брат, то она выпила собственного чаю с собственным сахаром, оставшимися в дорожном погребце, и, верно находя, что еда дворни не есть еда вражья и потому не омерзительна для ее души, она смиренно спросила у Аксиньюшки, то есть у Аксиньи Михайловны, людских щей и похлебала их. Прислугу она звала тихонько из другой своей двери в коридор, когда слышала, что там нет Настасьи Ивановны, и звала необыкновенно ласково. Прислуга бросалась к ней со всех ног. И старая Аксинья Михайловна, и Палашка были как-то особенно угодливы в этот день к Анне Ильинишне. Тут, видимо, действовало не одно приказание их барыни. Дворня, видимо, получила какое-то особенное расположение к Анне Ильинишне. И что было всего страннее, и чего Настасья Ивановна не замечала среди своих волнений: дворня эта, как приближенные, так и на дальних должностных ступенях стоящие, в последние две недели как-то стала нехорошо коситься на свою Настасью Ивановну. Правда, все исполняли свое дело, но физиономии были не те. Особенно друг и наперсница, Аксинья Михайловна, стала неузнаваема. В комнату она входила только по третьему зову, глядела не на барыню, а в пол и, уходя, ворчала под нос. Угрюмость эта все росла, и наконец Оленька, как ни была ветрена, а заметила.
— Что это, маменька, Аксинья Михайловна от вас нос воротит? — сказала она почти накануне вот этой катастрофы.
— Какие тебе вздоры чудятся! — возразила мать.
— Нет-с; вы заметьте.
И точно, Настасья Ивановна наконец заметила. В этот день она была горда и гневна за всю многолетнюю, смиренную жизнь свою, и все дурное ясно бросалось ей в глаза. С утра история «собственного чая» привела ее в негодование; но когда дело дошло до людских щей, она закипела.
— Да разве это щи — не мои же, не барские? — закричала она. — Разве Анна Ильинишна, когда их ест, не мне же одолжается? Или ей угодно на весь свет пустить, что я держала на застольной?
— Ничего не знаю, сударыня, — возразила Аксинья Михайловна, к которой относились эти речи. Она несла деревянную чашку со щами и была остановлена барыней среди двора.
— Как ничего не знаешь, Аксинья Михайловна?.. Да ты сама, матушка, на кого же сердишься? Что я тебе сделала?
Старуха утупилась.
— Смеем ли мы сердиться, сударыня. Хоть мы и вольные, а на все ваша господская воля. Что прикажете, то с нами и сделают… А что мы барышне услуживаем, на то господь велел; этого вам не взыскать. Мы за что ее обижать будем? Барышня праведная и нашею пищею не брезгает.
Сказав это, старуха проворчала что-то еще и понесла свое блюдо.
— Что такое, что такое? — хотела было спросить Настасья Ивановна — но была уже одна.
— Да они все очумели! — вскричала она, входя к единственному своему прибежищу, к Оленьке.
— Я вам говорила, маменька. И Палашка фыркает. Тут тетушкины штучки. Уж я вижу.
Настасья Ивановна решила, что будет негодовать и не уступит до последней крайности. Целый день она не подала голоса у дверей своей гостьи и миновала коридор, чтобы даже вскользь как-нибудь не встретить нарушительницы своего душевного мира. Так день прошел, так наступил вечер. Щеки Настасьи Ивановны осунулись, глаза потускнели.
— Из головы у меня не выходит, с чего это они все взбесились? — сказала она после часового молчания.
Она сидела под окном, за которым набегали летние сумерки. В сумерках было видно, как в кухне зажгли огонек и ужинали люди. Оленька ходила по зале и соображала, купить ли ей позументный поясок с кавказской пряжкой, какие она видела на городских барышнях. Настасья Ивановна немного посидела и вышла.
— Хлеб да соль, — сказала она, появляясь на пороге кухни. — Сидите, сидите, не вставайте.
Читать дальше