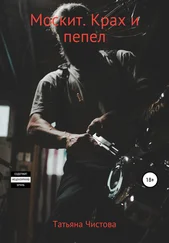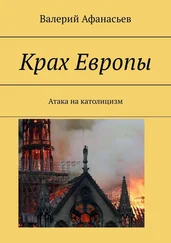— Это я, Арсений, виновата, — возразила Лина. — Он хотел с тобой приехать, а мне стыдно было и за ту ночь… Кто я тебе? — добавила она неожиданно.
— Как кто? — засмеялся Арсений. — Родня!
— Верно, родня, — задумчиво промолвила Лина. — Да очень дальняя… А как дети хорошо играют вместе! Удивительно, как они быстро поладили. Моя цыганочка вообще-то диковатая. Не с каждым мальчиком так сразу станет бегать. Ей еще и нельзя так носиться, да пусть порадуется, а то в больнице, бедная, натерпелась.
Разговаривая с Арсением, Лина продолжала стирать белье в тазике. А выполоскав, относила на бурьян и расстилала там сохнуть. Арсений следил за ее ловкой работой и чувствовал, как от этой молодой женщины веет домашним теплом, покоем, уютом, о котором он мечтал и которого уже никогда у него, видимо, не будет. Наконец Лина сложила все в тазик, собралась идти домой.
— Подожди, я привяжу лодку и помогу тебе донести таз.
— Ой нет! — испугалась Лина. Но, заметив, как она огорчила Арсения отказом, пояснила: — Ты уедешь, а про меня, увидев нас вместе, бабы начнут болтать языками. Я еще и из-за этого, сознаюсь, не хотела, чтобы ты приезжал в больницу. А к нам приходи, отец и мать будут рады.
— Хорошо, зайду попрощаться, — пообещал Арсений.
— У тебя какое-то горе? — не столько спросила, сколько отметила она.
— Почему ты так думаешь?
— Твои глаза никогда не смеются. Такие глаза были у моего мужа, когда он был тяжело болен. С тех пор я сразу замечаю такой взгляд. Прости, может, я глупости говорю.
— Вижу, ты не случайно черная как цыганка, — пристально глядя в ее глубокие карие глаза, налитые какой-то светлой печалью, сказал Арсений. — Умеешь ворожить!
— Ты когда зайдешь — сегодня или завтра? Чтоб мы дома были.
— Сегодня, — пообещал Арсений. — И приготовь карты, погадаешь мне!
Лина взяла тазик, легко подняла его на плечо и, не горбясь, по-девичьи стройно пошла, увязая в песке и держа малышку за руку. Тома оборачивалась, махала Алеше ручкой, звала:
— Алеса! Плиходи! Плиходи к нам!
В тот же вечер, как и обещал, Арсений зашел к Лине. Но ее почти не видел, она лишь помогла матери накрыть на стол и ушла, как сказал Степан Дмитриевич, укладывать ребенка. Но Арсений понимал, что не ребенок был причиной этого, хоть она и действительно укладывала малышку, а то, что Лина почему-то стеснялась разговаривать с ним при родителях. И Арсений пожалел, что зашел, ведь он с таким хорошим настроением простился с нею на берегу реки. Не вышла она на веранду и тогда, когда он, собравшись уходить, встал из-за стола. Не заметила? Не захотела? A-а, какое это имеет значение! Арсений пожал руку Степану Дмитриевичу и, не оглядываясь, пырнул в густую темень ночи. По дороге споткнулся, чуть не упал, так быстро шел. «А смотри-ка, прочла в моих глазах то, что творится на душе, — думал он. — Ни Лида, ни Михаил этого не заметили».
Еще день после того вечера Арсений оставался в селе, никуда не выходил из дома, готовил машину в дорогу. Посматривал на ворота: казалось, что Лина придет к сестре с дочкой — попрощаться с ним. Не пришла, не захотела гадать, не захотела вливать в душу отраву, зная, что ее и так по самые края. Проезжая мимо ее дома, сбавил скорость, глянул на подворье, но в нем было пусто. Ну, прощай, родное село, теперь уж он если и приедет сюда, то не раньше чем через год. А вот и та балка, в которой ночью буксовали. За десять дней дорога подсохла, ее подправили грейдером, можно ехать прямо. Вот и место, где он заночевал в ту грозовую ночь.
— Папа, а мы еще приедем сюда? — спросил Алеша, который сидел рядом пригорюнившись, молчал.
— Приедем, — ответил Арсений, он тоже в этот раз уезжал из села с таким ощущением, будто оставил там дорогого ему человека. Такое ощущение было только тогда, когда жива была мать и он, погостив у нее на каникулах, возвращался в университет. — Бабуся тебя давно уже высматривает.
«И не спросит, где мама, — вздохнул Арсений. — Да, может, это и хорошо, что он не прирос душой к Вите, не будет скучать по ней. А где она? Должно быть, уже в Нью-Йорке». Мысленно перенесся туда, в город небоскребов и трущоб, которые видел только на экране телевизора. Вспомнил, как неуютно чувствовал себя в заграничных поездках, как быстро надоедало там, на чужбине, хотелось скорее вернуться в Киев. Марчук, наверное, удивлен, что американцы не обнимают его и не называют гением! Ведь ему нужно два-три года, чтобы снять какой-то фильм — если найдется студия, которая купит кота в мешке! — и показать себя. Там никто не станет снимать фильм, тратить сотни тысяч, если будут знать, что лепту придется положить в архив. И, как ни странно, тем набить цену Марчуку, ибо он — и такой же «гений», как он, — скажет, усмехнувшись с видом превосходства: разве чиновники от искусства способны оценить что-либо оригинальное?
Читать дальше
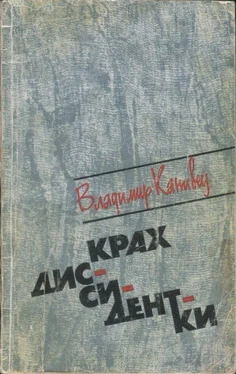

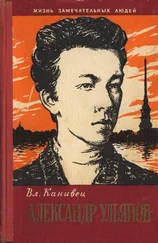

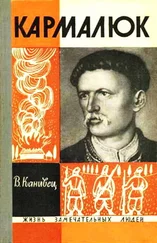


![Юрий Уленгов - Крах Элизиума [СИ]](/books/432413/yurij-ulengov-krah-eliziuma-si-thumb.webp)
![Ольга Крах - Говори с мудаком и победи его. Искусство манипуляции и общения с людьми [litres]](/books/433549/olga-krah-govori-s-mudakom-i-pobedi-ego-iskusstv-thumb.webp)