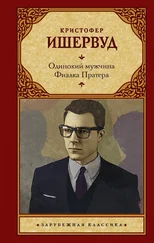Когда стемнело, одна девушка запела. Это была русская песня, и, как обычно, в ней слышалась грусть. Лакеи принесли стаканы и огромный кувшин с крюшоном. На лужайке стало прохладно. Светили мириады звезд. На озерной глади появились последние парусники, идущие против легкого ночного ветра. Играл граммофон. Я возлежал на подушках, слушая еврейского сержанта, который доказывал, что Франция не может понять Германию, так как французы не испытали ничего похожего на послевоенную жизнь в Германии. В группке молодых людей вдруг пронзительно засмеялась девушка. Где-то в городе подсчитывали голоса. Я подумал о Наталье: наверное, она вовремя скрылась. Сколько бы они ни откладывали решения, эти люди все равно обречены. Сегодняшний вечер – генеральная репетиция катастрофы. Или последняя ночь эпохи.
В половине одиннадцатого компания начала расходиться. Мы толпились в холле и возле входной двери, пока из Берлина по телефону передавали новости. Несколько минут притихшего ожидания – и мрачное лицо, вслушивающееся в телефонное сообщение, расплылось в улыбке. «Правительство осталось прежним», – сказал он нам. Несколько гостей заулыбались полуиронично, но с облегчением. Я обернулся и увидел у себя за плечами Бернгарда. «Еще раз капитализм спасен». На губах его играла легкая улыбка.
Бернгард договорился, чтобы меня подбросили до дома на заднем сиденье машины, отправляющейся в Берлин. Когда мы приехали на Таузенштрассе, там продавали газеты с сообщением о расстреле на Бюловплатц. Я подумал о компании, разлегшейся на лужайке у озера, попивающей крюшон под граммофонную пластинку, и о полицейском офицере с револьвером в руке, шатавшемся от смертельной раны на ступенях кинотеатра и упавшем замертво у ног картонной фигуры с рекламой комедийного фильма.
Еще один перерыв – на этот раз в восемь месяцев. И вот я звоню в квартиру Бернгарда. Да, он дома.
– Это великая честь для меня, Кристофер. И, к сожалению, очень редкая.
– Мне очень жаль. Мне столько раз хотелось прийти повидаться с вами. Даже не знаю, почему я этого не сделал.
– Вы все это время были в Берлине? Я дважды звонил фрейлейн Шрёдер, и какой-то странный голос отвечал, что вы уехали в Англию.
– Я так сказал фрейлейн Шрёдер. Не хотел, чтобы она знала, что я еще здесь.
– Да что вы? Вы поссорились?
– Напротив. Я сказал ей, что уезжаю в Англию – иначе она бы настояла на том, чтобы помогать мне. Я был в несколько стесненных обстоятельствах… Но теперь все в порядке, – добавил я поспешно, заметив озабоченное выражение на лице Бернгарда.
– Вы в этом уверены? Я очень рад… Но что вы делали все это время?
– Жил в семье из пяти человек в мансарде из двух комнат в Халлешкес Тор.
Бернгард улыбнулся:
– Бог мой, Кристофер, какая романтическая у вас жизнь!
– Я рад, что вы находите это романтичным. Я не нахожу.
Мы оба засмеялись.
– По крайней мере, – сказал Бернгард, – это пошло вам на пользу. Вы пышете здоровьем.
Я не мог ответить ему тем же. По-моему, я еще не видел Бернгарда таким больным. Бледное вытянутое лицо его не покидало выражение крайнего утомления, даже когда он улыбался. Под глазами глубокие желтоватые круги. Волосы, казалось, поредели. Он как будто постарел на десять лет.
– А как вы поживаете? – спросил я.
– Боюсь, мое существование по сравнению с вашим – тоскливая тягомотина. Тем не менее не обходится и без происшествий.
– Каких?
– Например, вот. – Бернгард подошел к письменному столу, взял лист бумаги и протянул его мне: – Пришло по почте сегодня утром.
Я прочел отпечатанные на машинке слова:
«Бернгард Ландауэр, берегись. Мы собираемся расправиться с тобой, твоим дядей и всеми остальными грязными евреями. Даем тебе двадцать четыре часа, чтобы ты выметался из Германии. Если нет, считай, ты мертв».
Бернгард засмеялся.
– Кровожадно, не правда ли?
– Кошмар. Как вы считаете, кто мог отправить это?
– Может быть, уволенный служащий. Или любитель подобных шуточек. Или сумасшедший. Или горячая голова – какой-нибудь нацистский молодчик.
– Что же вы будете делать?
– Ничего.
– Конечно, заявите в полицию?
– Дорогой Кристофер, полиция очень скоро устанет от подобной ерунды. Мы получаем три-четыре таких письма в неделю.
– Тем не менее это может быть всерьез. Нацисты могут писать, как школьники, но они способны на все. Поэтому-то они так опасны. Люди смеются, до последней минуты не веря, что может случиться беда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Кристофер Ишервуд Труды и дни мистера Норриса. Прощай, Берлин [сборник litres] обложка книги](/books/397912/kristofer-ishervud-trudy-i-dni-mistera-norrisa-pro-cover.webp)
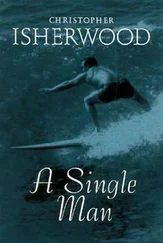
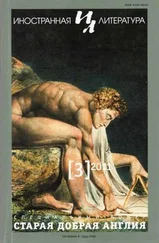
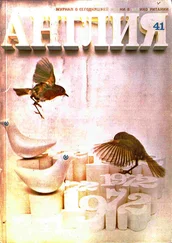



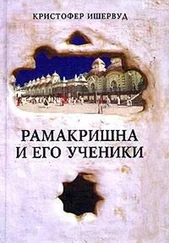
![Рафаэль Лафферти - Дни, полные любви и смерти. Лучшее [сборник litres]](/books/385123/rafael-lafferti-dni-polnye-lyubvi-i-smerti-luchshe-thumb.webp)
![Кристофер Ишервуд - Прощай, Берлин [litres]](/books/393213/kristofer-ishervud-prochaj-berlin-litres-thumb.webp)