«Погоди», – шепнула Хелен.
«Где остальные?» – спросил я.
«Ушли. Одна из них нацистка. Поэтому я не могла выбраться раньше. Она бы меня выдала. Та, что плакала».
Хелен сняла блузку и юбку, протянула мне сквозь проволоку. «Нельзя, чтобы они порвались, – сказала она. – Других у меня нет».
Как в бедных семьях, где не так важно, что дети разбивают коленки, куда важнее, чтобы не порвали чулки, ведь ссадины заживают, а чулки надо покупать новые.
Я чувствовал одежду в своих руках. Хелен нагнулась и осторожно пролезла сквозь проволоку. Оцарапала плечо. Словно тоненькая черная змейка, на коже выступила кровь. Хелен встала. «Мы можем сбежать?» – спросил я.
«Куда?»
Я не знал ответа. Куда? «В Испанию, – сказал я. – В Португалию. В Африку».
«Идем, – сказала Хелен. – Идем и не будем говорить об этом. Отсюда без документов не сбежишь. Поэтому они даже особо за нами не следят».
Впереди меня она пошла в лес. Почти обнаженная, таинственная и очень красивая. В ней уцелел лишь намек на Хелен, мою жену последних месяцев; как раз достаточно, чтобы со сладостной болью узнать ее под налетом минувшего, от которого кожа зябко и с надеждой пошла мурашками. Но здесь был и кто-то еще, пока что почти безымянный, сошедший с фриза кариатид, окруженный девятью месяцами чужбины, которая намного больше двадцати лет в нормальной жизни.
Хозяин того кафе, где мы сидели раньше, подошел к столику.
– Толстуха-то хоть куда, – солидно произнес он. – Француженка. Умудренная чертовка, очень рекомендую, господа! Наши женщины пылкие, но слишком торопливые. – Он прищелкнул языком. – Позвольте откланяться. Нет ничего лучше, как очистить себе кровь с помощью француженки. Они понимают жизнь. С ними и врать особо незачем, не то что с нашими. Благополучного возвращения, господа! Не берите Лолиту и Хуану. Обе никуда не годятся, вдобавок Лолита так и норовит что-нибудь стырить, только отвернись.
Он ушел. Когда дверь открылась, внутрь тотчас впорхнуло утро, донесся шум пробуждающегося города.
– Пожалуй, и нам пора идти, – сказал я.
– Я скоро закончу рассказ, – ответил Шварц, – и у нас еще осталось немного вина.
Он заказал вино и кофе для трех женщин, чтобы они к нам не приставали.
– Той ночью мы почти не разговаривали, – продолжал он. – Я расстелил куртку, а когда стало холоднее, мы укрылись блузкой и юбкой Хелен и моим свитером. Хелен засыпала и просыпалась; один раз, в полусне, мне показалось, что она плачет, а потом она снова была невероятно нежна и осыпала меня бурными ласками, как раньше никогда не бывало. Я ни о чем не спрашивал и ничего не рассказывал о том, что слыхал в лагере. Очень любил ее и все же каким-то необъяснимым, холодным образом был от нее далек. К нежности примешивалась печаль, которая еще обостряла нежность; казалось, мы лежали, прильнув к потусторонности, слишком далеко, чтобы когда-нибудь возвратиться или куда-нибудь добраться, все было – только полет, близость и отчаяние, да-да, именно отчаяние, беззвучное, потустороннее отчаяние, в которое капали наши счастливые слезы, невыплаканные темные слезы знания, которому ведома бренность, но уже неведомы прибытие и возвращение.
«Мы не можем сбежать?» – опять спросил я, прежде чем Хелен вновь проскользнула сквозь колючую проволоку.
Она не отвечала, пока не очутилась на той стороне. «Я не могу, – прошептала она. – Не могу. Иначе пострадают другие. Приходи снова! Завтра вечером. Можешь прийти завтра вечером?»
«Если меня до тех пор не поймают».
Хелен посмотрела на меня. «Что сталось с нашей жизнью? – спросила она. – Что мы сделали, раз с нашей жизнью сталось такое?»
Я передал ей блузку и юбку, спросил: «Это твои лучшие вещи?»
Она кивнула.
«Спасибо тебе, что ты их надела, – сказал я. – Завтра вечером я обязательно приду снова. Спрячусь в лесу».
«Тебе надо подкрепиться. У тебя есть еда?»
«Немножко. И потом, в лесу, наверно, есть ягоды. И грибы или орехи».
«Сможешь продержаться до завтрашнего вечера? Тогда я что-нибудь принесу».
«Конечно. Ведь уже почти утро».
«Грибы не ешь. Ты в них не разбираешься. Я принесу достаточно еды».
Она надела юбку. Широкую, голубую, белыми цветами, она повернула ее и застегнула, словно опоясалась оружием перед битвой. «Я люблю тебя, – с отчаянием сказала она. – Люблю куда сильнее, ты даже представить себе не можешь как. Не забывай об этом! Никогда!»
Так она говорила почти всякий раз перед разлукой со мною. В ту пору мы для всех были вне закона – как для французских жандармов, которые из непомерной любви к порядку устраивали на нас облавы, так и для гестапо, которое пыталось проникнуть в лагеря, хотя считалось, что с правительством Петена достигнуто соглашение, запрещающее это. Ты никогда не знал, кто тебя сцапает, и каждое прощание утром всегда было последним.
Читать дальше
![Эрих Ремарк Ночь в Лиссабоне [litres] обложка книги](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-cover.webp)


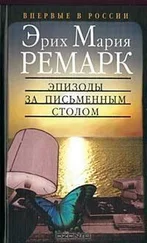
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)



буквально завтра я делаю себе Шенген, еду в Лиссабон впервые в жизни за той самой.... "жуткой отчаянной надеждой"