Шварц продолжал:
– «Если мы останемся, нас опять разлучат, – сказал мне этот человек. – Здесь женский лагерь. Нас привезли сюда, но лишь на несколько дней. Мне уже сообщили, что я буду отправлен в другое место, в один из мужских лагерей. Мы этого не вынесем». Он все обдумал, так, мол, будет лучше. Бежать они не могут, уже пробовали. Чуть не умерли с голоду. Теперь вот ребенок захворал, жена совершенно без сил, да и он сам тоже. Лучше добровольно вернуться; мы-де тут, в сущности, как скот в цехах бойни. Так или иначе заберут, по необходимости или по капризу. «Почему нас не отпустили, когда еще было время?» – сказал под конец этот кроткий, худой мужчина с узким лицом и маленькими темными усиками.
Никто бы не сумел ему ответить. Мы не были здесь нужны, но и отпустить нас не отпускали – мелкий парадокс при крахе целой нации, и те, кто мог бы изменить обстоятельства, не придавали ему значения.
На следующий день ближе к вечеру вверх по дороге проехали два грузовика. И тотчас я увидел, как колючая проволока ожила. Примерно десяток женщин, помогая друг другу, пролезли под ней. И все бросились в лес. Я сидел в укрытии, пока не заметил Хелен. «Нас предупредила префектура, – сказала она. – Немцы явились за теми, кто хочет вернуться. Неизвестно, что еще произойдет, поэтому нам разрешили спрятаться в лесу, пока они не уедут».
Впервые я увидел ее днем, если не считать того мгновения на дороге. Ее длинные ноги и лицо покрывал загар, но она очень исхудала. Глаза слишком большие и блестящие, а лицо слишком узкое. «Отдаешь мне еду, а сама голодаешь», – сказал я.
«Еды мне хватает, – сказала она. – Об этом заботятся. Вот… – она сунула руку в карман, – даже кусок шоколада. Вчера мы могли купить pâté de foie gras [18] Пирог с гусиной печенкой ( фр .).
и сардины в банках. Но хлеба не было».
«Мужчина, с которым я говорил, уезжает?» – спросил я.
«Да…»
Лицо Хелен вдруг дернулось. «Я никогда не вернусь, – помолчав, сказала она. – Никогда! Ты мне обещал! Я не хочу, чтобы меня поймали!»
«Тебя не поймают».
Через час грузовики уехали. Женщины пели. Ветер доносил слова: «Германия, Германия превыше всего».
Той ночью я поделился с Хелен ядом, добытым в Ле-Верне.
Днем позже она узнала, что Георг доведался, где она.
«Кто тебе сказал?» – спросил я.
«Тот, кто знает».
«Кто?»
«Лагерный врач».
«Откуда ему это известно?»
«Из комендатуры. Туда пришел запрос».
«Врач сказал, что́ тебе надо делать?»
«Он может на несколько дней спрятать меня в больничном бараке. Ненадолго».
«Тогда тебе надо уходить из лагеря. Кто вчера предупредил, что те из вас, кому грозит опасность, должны спрятаться в лесу?»
«Префект».
«Ладно, – сказал я. – Постарайся добыть свой паспорт и справку об освобождении. Вероятно, врач тебе поможет. Если нет, мы сбежим. Собери все необходимое. Никому ни слова. Никому! Я постараюсь поговорить с префектом. Похоже, он человек».
«Не надо! Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен!»
Кое-как почистив комбинезон, я утром вышел из леса. Приходилось брать в расчет, что можно попасть в лапы немецких патрулей или французских жандармов, но отныне с этим надо было считаться постоянно.
Мне удалось пройти к префекту. Я обманул жандарма и писаря, выдав себя за немецкого техника, которому требуется информация о прокладке электрической линии для военных нужд. Когда совершаешь неожиданный поступок, иной раз все получается, это я усвоил. Как беженца жандарм немедля бы меня арестовал. Подобные люди лучше всего реагируют на крик.
Префекту я сказал правду. Сперва он хотел меня вышвырнуть. Потом моя наглость позабавила его. Он угостил меня сигаретой и сказал, чтоб я убирался к чертовой матери, он-де ничего не видел и не слышал. Через десять минут он заявил, что ничего сделать не может, у немцев, вероятно, есть списки и его привлекут к ответу, если кого-нибудь недосчитаются. А ему не хочется сгинуть в немецком концлагере.
«Господин префект, – сказал я, – мне известно, что вы защищали пленных. Как известно и что вы обязаны подчиняться приказам. Но, кроме того, и вам, и мне известно, что во Франции сейчас царит хаос поражения, что нынешние приказы могут оказаться завтрашним позором и что, если сумятица выродится в бессмысленную жестокость, оправдать ее даже позднее будет трудно. Зачем вам, вопреки собственной воле, держать невинных людей за колючей проволокой, предназначая их для крематориев и пыточных камер? Возможно, в то время, когда Франция еще оборонялась, существовало мнимое право сгонять иностранцев в лагеря для интернированных, безразлично, выступали ли они на стороне агрессоров или против них. Но война давно закончилась, несколько дней назад победители забрали своих; в лагере остались только жертвы, день за днем изнывающие от страха, что их увезут на смерть. Мне бы следовало просить за всех этих жертв, а я прошу только за одну из них. Если вы боитесь списков, запишите мою жену как сбежавшую… как умершую, наконец, как самоубийцу, если угодно, тогда вы никакой ответственности не понесете!»
Читать дальше
![Эрих Ремарк Ночь в Лиссабоне [litres] обложка книги](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-cover.webp)


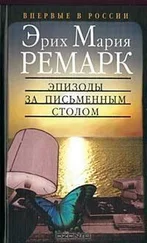
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)



буквально завтра я делаю себе Шенген, еду в Лиссабон впервые в жизни за той самой.... "жуткой отчаянной надеждой"