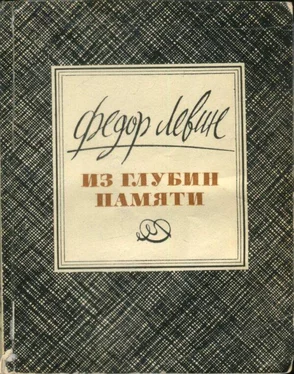Выступал Евгений Замятин, элегантный, тщательно причесанный, с пробором через всю голову, в отличном, отглаженном английском костюме, весь какой-то англизированный, «европейский». Он прочел две сказочки. В одной речь шла о крестьянине, который долго лечился, кажется, от болей в пояснице. Ему посоветовали лечиться электричеством, пойти в поле, взять в руки конец проволоки и забросить другой ее конец на провод. Крестьянин так и сделал, его ударило током, и он грохнулся на землю и отдал богу душу. «Вылечился». В другой сказочке крестьянин пришел в город, увидел карусель. Ему сказали, что никакой платы не требуется. Он забрался на сиденье и крутился до тех пор, пока его не сняли полубесчувственного.
И наконец, выступала Анна Ахматова. Строгая, в темном закрытом платье, она прочла несколько стихотворений, которые я уже знал по ее «Четкам» и «Белой стае».
Большинству слушателей вечер не понравился. Мы тогда требовали только стихов и прозы о революции, о классовой борьбе. Все, что не было непосредственно этому посвящено, отвергалось.
В этом духе я написал тогда отчет-статью об этом вечере, появившуюся в литературно-художественном двухнедельнике «Зори», где ранее я уже успел поместить несколько стихотворений.
Об Анне Андреевне, помнится, я написал — и эта фраза мне тогда очень нравилась, — что годы революции прошли над нею, не задев даже ее великолепной прически.
Мог ли я понять тогда всю сложность пути Ахматовой и ее отношений с революционной эпохой?
Добавлю, что еще подростком, до революции, я знал многие стихи Ахматовой наизусть, восхищался ими («Сжала руки под темной вуалью», «Звенела музыка в саду», «Я пришла к поэту в гости»). Но в первые годы революции мною владел тот непримиримый ригоризм, который был характерен и для всего моего поколения. Позже мне стало известно, что Маяковский, конечно знавший и понимавший поэзию Ахматовой, боролся с ее влиянием. Выступая однажды, он в полемическом задоре спел на мотив «Ухаря-купца»: «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король». Вслед за Маяковским мы твердили: «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе!»
На сказочки Замятина я напал очень яро, усмотрев в первой издевательство над электрификацией, а во второй — над бесплатностью (у нас очень многое тогда было бесплатным, — по карточкам, талонам, пропускам и т. п.).
Через несколько дней в газете появилось письмо Замятина в редакцию, его ответ мне. Замятин писал, что я-де объявил его пророком, на что он не претендовал. Дело в том, что одна сказочка написана и опубликована им году в 1910 или 1911-м, другая — в 1913-м или что-то в этом роде.
Вспоминая прошлое, я не упрекаю себя. Иначе я тогда и мыслить не мог. Для меня было совершенно естественным требовать от каждого писателя, чтобы революция и борьба за нее были не только главной, но и единственной темой в обстановке тех лет. Что же до сказочек Замятина, то несущественно, когда они были написаны, важно, как они звучали и воспринимались, для чего читались.
Помню также большой вечер «Серапионовых братьев» и других писателей в аудитории знаменитого Тенишевского училища. Там тоже выступал Замятин, читал Федин и другие.
Мы все знали тогда наизусть стихи Тихонова — «Балладу о синем пакете», «Балладу о гвоздях», «Перекоп». Однажды я шел по Невскому с кем-то, кто был знаком с Николаем Семеновичем, и мы его встретили. Они заговорили, а я с восхищением смотрел на поэта. Он был худощав, помнится, прихрамывал, одет в кожаную куртку, с трубкой в зубах. Мне, быть может, показалось, что у него ноги кавалериста, «колесом». Энергичное лицо, хохолок надо лбом — таким он остался в моей памяти.
В Дом искусств попал я однажды, там был вечер поэта Сергея Нельдихена, он читал поэму «Праздник». Высокий, стройный, худой юноша в широкой блузе художника, с повязанным на шее черным бантом, с узким лицом, он держался как модный поэт и, видимо, кому-то подражал, не то Северянину, не то Бальмонту. Двадцать лет спустя, весной 1941 года, я вновь встретил его в Москве. Он приходил в редакцию «Литературного обозрения», брал книжки на рецензию. Литературная жизнь его сложилась неудачно, успеха он не добился. Я напомнил ему о Ленинграде начала двадцатых годов, о его дебюте. Нельдихен оживился, обрадовался. Через несколько дней он принес и подарил мне три свои тоненькие книжки, изданные Союзом поэтов в Москве в 1929 и 1930 годах. Они и тогда уже стали библиографической редкостью. Вскоре началась война, я потерял Нельдихена из виду.
Читать дальше