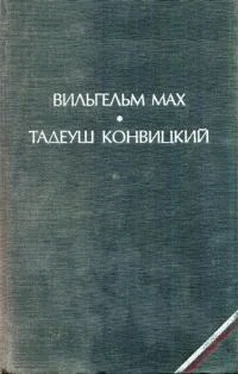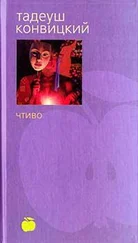Наш командир метнулся во сне и застонал. Свободной рукой Муся тщательно укрыла его буркой. В жестяной трубе гогочет метель, пожираемая огнем.
Я снова чувствую влажное тепло ее дыхания.
— Ой ты, Старик, Старик, — вздыхает она.
— Только кличка и осталась у меня от лучших времен.
Она гладит меня горячей ладонью по лбу, а я вдруг припадаю к ней всем телом и прижимаюсь лицом к ее груди, закованной в сукно мундира. Муся обнимает меня, сплетает ладони на моей спине.
— Спи, Старик, — шепчет она.
— Так точно, начальница.
Этот ее жест носит чисто материнский характер. Поэтому я чувствую себя чем-то вроде вора. Я застываю в неподвижности, подавляя в себе нечистые желания. Только когда Муся засыпает, я осторожно прикасаюсь губами к ее шее. Муся дышит спокойно, ее теплое дыхание мерно заполняет купол кожуха. И тогда я начинаю смелее целовать ее подбородок, приоткрытый рот, жесткий пушок над верхней губой. Она беззащитна, отгорожена от меня сном. Так я осторожно краду ласки, и меня мучительно терзает стыд, пока наконец я не засыпаю в ее тепле, пахнущем осенними листьями.
Потом в преследующие меня кошмары врывается сонная болтовня, я различаю голоса Тихого и Сокола и медленно открываю глаза. На фоне потолка, сплетенного из еловых веток, я вижу смуглое лицо с резко очерченным ртом, окаймленное серпом черной бороды. И я вскакиваю из-под кожуха и докладываю:
— Сержант Старик…
— Оставь в покое, лежи… — говорит Корвин.
Борода придает ему солидность, он выглядит старше, чем я, его внешность как-то действует на окружающих. Он ко мне относится снисходительно, я к нему — с уважением. Муся, сидя у зеленой стены, пришивает пуговицу.
— Есть у вас чем позавтракать? — спрашивает Корвин.
Заяц кладет на ящик краюху хлеба, обсыпанного маком, и несколько головок лука, после чего принимается делить хлеб на равные части.
— Нас тут набилось по числу апостолов, — говорит он. — Тринадцать.
— Интересно, кто будет этим последним, — замечает Корвин.
Я старательно натягиваю сапоги.
— Вместе с Мусей — четырнадцать человек.
Корвин исподлобья смотрит на меня.
— Четырнадцать — это хорошее число, — отзывается Муся.
Тихий скручивает цигарку, потом ищет в пепле уголек.
— Вообще что за разговор, апостолов было двенадцать.
— Нет, папаша, — Заяц прерывает резку хлеба. — Апостолов было тринадцать, столько, сколько нас. Пан командир, ваша порция.
— Сперва дай Мусе, — приказывает Корвин.
Когда очередь доходит до меня, я переворачиваюсь на другой бок.
— Не хочу, я не голодный.
И снова вижу глаза Корвина, мне кажется, что он смотрит иронически.
— Ну, Старик, что за капризы? Бери хлеб.
— Нет, не хочу.
— Он стесняется, — примирительно говорит Муся. — Возьми и ничего не объясняй. Я не один раз видела разведчиков, которые возвращались с пустыми руками.
Корвин улыбается одними губами.
— Видишь, даже Ласточка тебя защищает. Ешь, нечего привередничать.
Я упрямо молчу, а Заяц снова подходит к ящику и отодвигает в сторону мою порцию.
Все деловито жуют хлеб, выпеченный из муки, смолотой на ручных жерновах. Муся разгрызает четвертушку луковицы, давится и плачет.
— Глаза щиплет? — сочувственно спрашивает Тихий.
— Ох, и жизнь у меня с вами. — Она откладывает хлеб и перекусывает зубами нитку. Потом разглядывает на вытянутой руке свой френч. — Не успела приехать, а меня уже ваши вши заели.
Она подворачивает свитер и, не стесняясь, чешет грудь под бюстгальтером, а мы, совершенно не воспринимая вульгарности этого жеста, смотрим на нее голодными глазами.
— Ну, Муся, Муся, — выговаривает ей Корвин. — Уважай себя.
— А что? Разве я не такой же солдат, как и вы?
Заяц собирает крошки хлеба и всыпает их в рот.
— Пан капитан, хлеб кончился.
— А мы вчера видели парней из отряда Кмицица, — раздается голос Тихого. — Их везли на санях.
Корвин ложится на спину рядом со мной.
— Растопите печь.
— Скоро полдень, пан капитан, — говорит Тихий.
— Такая вьюга. Никто дыма не заметит.
Он достает из-под головы планшетку.
Водит пальцем по немецкой штабной карте.
— Знаю. Ласточка принесла донесение. Засыпал их один гад. Загребли весь взвод на дневке, когда они спали.
Муся надевает френч, медленно застегивает все пуговицы. В ее черных волосах полно золотых игл лиственницы. Не отрывая от нее глаз, мы нудно чешемся. От печурки снова пышет жаром, и тепло вызывает зуд. Однообразный треск горящих сучьев заполняет нашу сырую яму.
Читать дальше