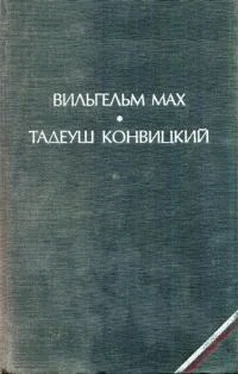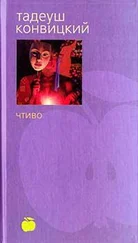— Какой сегодня день? — спрашивает Сокол.
— Сочельник, вы что, забыли? — возмущается Муся. — Надо о елочке подумать.
— Съел бы я кусочек свежатины, — вздыхает Заяц.
Муся натягивает заляпанные офицерские сапожки.
— Глядите, как расчувствовался.
Моя порция хлеба и лука по-прежнему лежит на ящике. Капли влаги тяжело падают на присыпанную мукой корочку. А над нами гудит вьюга.
Корвин поворачивается ко мне.
— В сумерки пойдешь на задание.
— Слушаюсь, начальник.
— Предупреждаю, работа будет нелегкая.
— Сам понимаю.
— Пока еще не понимаешь. Надо разделаться с гадом, который выдал людей Кмицица.
Муся наклоняется к Корвину.
— О чем вы говорите?
— Не вмешивайся, Муся. Это надо сделать по всей форме. Я с утра написал приговор.
Он испытующе смотрит на меня. Я не вполне понимаю, о чем идет речь.
— Если не хочешь сам, тяните жребий. Я никого не принуждаю.
Он ведь моложе меня, но у него в бороде вьются серебряные нити.
— Ты все еще помнишь Гугдаи?
На мгновение он закрывает глаза.
— Помню ли? Не имеет значения. Я в тот раз справился с собой. Может, я тебя должен благодарить?
Сокол мурлыкает в углу. Он считает себя музыкальным. Изогнутая труба все сильнее накаляется. Капли сырости, которые падают на нее, шипят долго и жалобно.
— Ладно, Корвин, я сам это сделаю.
— Я ведь сказал — тяните жребий.
— Я знаю, как мне следует держаться. Один все выполню.
Муся собирает в кулак темные пряди волос Корвина.
— Я пойду с ними?
— Зачем?
— Я знаю дорогу. Быстрее доберемся.
Корвин поддается ласке, но я замечаю в нем какую-то натянутость.
— Он справится. Я у него учился нашему ремеслу.
— Разреши, Корвин. Принесем что-нибудь к сочельнику, — просит Муся.
— С Зайцем ты бы тоже пошла?
— Ты, может, ревнуешь? А какие у тебя на меня права?
— Ну, хорошо, Муся. Если хочешь, иди.
Сокол встает и прохаживается по нашему убежищу, устланному сырыми зелеными ветками.
— Ну и завывает там, наверху. Который это по счету у нас такой сочельник?
— Надо срубить елочку, — замечает Тихий.
— Мало тебе тут хвои? — ворчит Сокол.
Корвин переворачивается на живот, подпирает ладонями свое смуглое лицо — маску одного из Трех волхвов [3] В день католического праздника Трех волхвов — 6 января — ряженые при зажженных елках поют коляды.
.
— Лишь бы дотянуть до весны, ребята, — говорит он. — В марте нам привезут радиостанцию. Мы будем считаться специальным отрядом. Такое положение, как теперь, долго не протянется, уверяю вас.
Так в праздности тянется сонный день: мы лениво перекидываемся фразами, а иногда внезапно умолкаем, и тогда нам кажется, что откуда-то с опушки чащи до нас долетают обрывки коляды, что ветер вдувает в щели люка запах мороза, смешанный с благоуханием мака, растираемого в ступке.
— Который час? — спрашиваю я у Корвина.
— У тебя еще есть время, только двадцать минут четвертого.
— Мне пора идти.
Он настороженно смотрит на меня.
— Еще светло.
— Мне хочется, чтобы это уже было позади.
— Я же тебе говорил: тяните жребий.
— Нет, нет. Я беру на себя.
— Ты изменился, Старик.
— Мне досталось больше, чем всем вам.
Он смотрит в сторону, словно пристыженный моей искренностью.
— Ты в любой момент можешь уйти, — говорит он. — Они весной тоже вернутся домой. — Он указывает подбородком на Тихого, который грызет стебель соломы. — Я это знаю. Летом легче прятаться по хатам.
— А ты?
— А я? Ты знаешь мои дела. Мне надо еще встретиться с братом. Повешу его так, как я задумал, и буду свободен.
— Ты все еще об этом думаешь?
— Да. Эта мысль мне спать не дает.
— Откуда ты знаешь, что он жив.
— Я уверен, что он уцелел. А теперь пришел его час.
— Все-таки он тебе брат.
Корвин прячет лицо в рваном кожухе.
— Ты знаешь, что я из-за него вытерпел? Где бы я ни показался, утром ли, ночью ли, я чувствовал, как меня провожают враждебные глаза: большевик, большевик, большевик. Однажды я вернулся вечером, а он сидел за столом. Перед ним лежали его бумаги, нелегальные издания или что-то вроде. Я подошел и плюнул. Тогда он встал и первый раз в жизни ударил меня по лицу. Потом он долго бил меня, как чужого, у меня кровь шла из ушей, из носа, изо рта. Ночью он проснулся и слушал, дышу ли я. «Я для тебя отец, — сказал он, — и либо человеком тебя сделаю, либо убью».
Я встаю, надеваю кожух. Сокол и Тихий тоже собираются в путь. На кожух я натягиваю отсыревшую шинель, распаренную с одной стороны жаром печурки. Муся уже готова, стоит возле лесенки.
Читать дальше