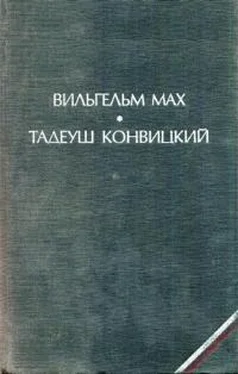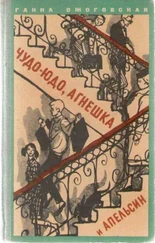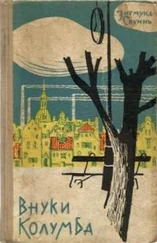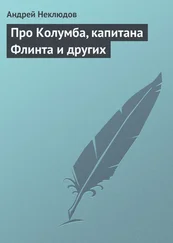— Вы были студентом? — машинально спрашивает она, забывая, зачем пришла. Любопытство и неосознанное желание проникнуть в открывавшуюся ей неведомую область его жизни приглушили в ней ощущение времени. Она даже не замечает его присутствия.
— Да, на ветеринарном учился, — отвечает он. — Но не окончил. Война. Знаете, — оживляется он, — у меня это вышло как-то символично. Проучиться так мало — это больше чем ничего, но и говорить тоже не о чем. У меня во всем так, с первых шагов.
— Я плохо вас понимаю.
— Объясню поподробней: когда-то давно я был слишком слаб, чтобы удовлетворить свое честолюбие и быть на равных с теми, кто мне импонировал. Но слишком силен, чтобы признать себя побежденным и покориться. Вы застали всех этих мелкопоместных шляхтичей с претензиями? Конторщиков? Управляющих?
— Нет, уже не застала.
— Ну разумеется. Вы слишком молоды.
— Не поэтому…
— Ну и зверинец же был. Образцовый кавалер, обходительность манер. На брюхе — шелк, а в брюхе щелк. Среди них я и брал первые уроки. Наверху — бог и отечество, внизу — темный народ, а в середине — я, кандидат в герои. Соблазны манили ввысь, а сила притяжения — вниз. История решила по-своему, и вот я — солтыс в Хробжичках. Ветеринар в Хробжичках не нужен. Людей лечит Бобочка, а пристрелить бешеную собаку может и солтыс. И просто, и радикально. Я позабыл уже и то, чему успел выучиться. Что ж, — заканчивает он с горечью, — что люди, что скотина… в конечном счете — все одно. — И после паузы добавляет хрипловато: — Может, выпьете рюмочку? После работы в честь субботы?
— Нет.
— Жаль. — Он поднимает стакан и одним глотком опустошает его до дна.
— А мне вас жалко.
— Меня? Неужели?
— Я и сама уже не знаю, кого жалко. Может, и вас тоже. Но наверно, и себя. Из-за вас мне и трудно, и неловко, и не по себе, будто руки и ноги опутаны веревкой, ох, уж эта веревка. Не могу к людям пробиться. В конце концов я должна была вам это сказать. Вы сразу встали между мной и всеми. Вы… закрыли от меня деревню.
— Как это — «закрыл»?
— Не знаю, — смутившись, идет вдруг на попятный Агнешка. — Я так чувствую.
— Ведь и я в проигрыше, — говорит Балч, глядя в сторону. — Еще в худшем. Я имел больше вашего. Это не я закрыл от вас деревню и людей. Это вы закрыли меня от людей.
— Если вы жалеете только об этом, я ничем не могу вам помочь.
— Может, и не только об этом. Загорелось что-то совсем рядом и погасло. Осталась пустая комната. Ну да черт с ним.
— Комната пустовать не будет, лишь бы вы согласились. Надо расширить школу.
— Для восьмерых детей, что ли? — В тоне Балча снова слышится сарказм.
— Детей будет больше.
— Ну и что? Чего вы этим достигнете? На какую карту вы ставите?
— Я не играю. Я живу.
— Через пять-десять лет от вас ничего не останется.
— Пусть. Все равно не хочу, не умею иначе.
— Ради какой карьеры?
— Карьера! Как мне вас убедить?.. — И она чуть ли не кричит с неожиданной горячностью: — Эта школа значит для меня так много, что я… жизнь за нее отдала бы. — Но тут же осекается. Жизнь… Так говорится. И это не только бескорыстие. Но еще и честолюбие. И, помолчав, она добавляет искренне и с оттенком удивления: — А еще хочется доказать вам, именно вам.
— Доказать? Что же?
— Вы и сами хорошо знаете, — с грустью, без гнева говорит Агнешка. — Все доказать. Ведь вы же не верите людям. Вы помыкаете ими. Унижаете их, спаиваете.
— Последний упрек незаслуженный. Я всюду, где можно, за терпимость, я, как говорится, регулирую стихийные процессы. Самогон — это у нас совершенно особая статья. Мне, с вашего позволения, интересно следить, как проявляются мировые контрасты в нашем скромном масштабе. Вы полагаете, что самогон — это только порок, пьянство? Нет, кроме того, это наш местный промысел. Вам кажется, что Зависляк всего-навсего подпольный винокур? Нет, кроме того, он директор нашей сельской водочной монополии, можно сказать, чиновник. Большая часть доходов идет на общественные нужды.
— На какие же? — горячо прерывает его Агнешка. — На отравление людей? На похороны? На взятки, чтоб улаживать скандалы?
— Как вы узнали?
— Никак. Это мои догадки.
— Довольно меткие. Кстати, я был у Кондеры и все уладил.
— Что уладили?
— Оставил ему лекарство. На столе под клеенкой, в конверте. Надеюсь, Кондера найдет конверт и поправится.
— Не верю!
— И зря. Вы неисправимая идеалистка.
— Не верю! И прошу не делать мне подобных признаний и не впутывать меня в это. Не хочу ничего знать, не хочу.
Читать дальше