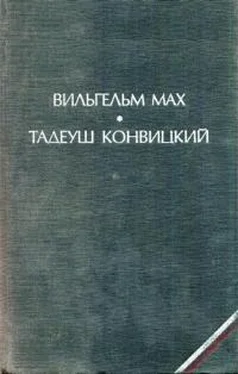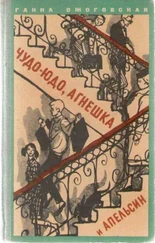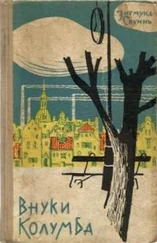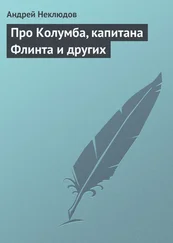Вот видишь, Иза, я еще не умею тебе объяснить, насколько все эти «надо» связаны с т е м с а м ы м, насколько одно вытекает из другого, становясь одним большим целым, суммой всего в моей жизни. Я только начала этому учиться, сидя здесь впотьмах за первой школьной партой.
Помнишь, Иза, как вы навестили меня? Тогда шла речь о высочайшей цене идеала. До чего же мы были в себе уверены, как задавались и умничали. Нам казалось, что стоит лишь капельку рискнуть и примириться с деревенскими неудобствами, чтобы считать свои идеалы оплаченными. Но потом даже он сердито и язвительно попрекал меня моим воображаемым идеализмом и противопоставлял ему свою мнимую трезвость мыслей и поступков. Насколько же по-иному я вдруг увидела все это сегодня или, может быть, не увидела, а только почувствовала.
Кто из нас двоих, он или я, стремился к наивысшей самоотдаче, к наибольшему, ко всему?
Не знаю.
После нашего разговора там, на берегу, точнее, после всего сказанного им (и недосказанного) о Пшивлоцком, мне кажется, что в его жизни был период, и, наверно, долгий, продолжавшийся, возможно, вплоть до самого боя за башню, когда он требовал от себя и от других всего, максимальной самоотдачи. И верил, что человеку это по силам. «Хороший был солдат, — скакал он о Пшивлоцком и добавил с горечью: — При штурме принимается во внимание только цель и результат, больше ничего. — И под конец, не желая признаваться в большем: — Так было надо, и я, по сути, обязан ему и отыгрышем потерянной надежды и многим из того, что знаю теперь о людях и о себе». Я вдруг почувствовала, скорее по тону, чем по словам, что он очень уважал и любил своего командира, очень ему верил. Пока не разочаровался — не только в нем, но и в ценности собственных чувств. И теперь я по-иному понимаю его прежние недобрые намеки насчет Пшивлоцкого, которые я слышала только от него, он еще раз это подтвердил. Они были подсказаны его собственным разочарованием, собственной обидой, горечью утраченной веры.
Вообрази-ка себе, Иза, вместе со мной, что кто-то требует от себя самого и других абсолютного совершенства и ожидает этого совершенства вопреки разуму и опыту. Разве не безумие так ждать чуда, так мечтать о совершенстве, уже не ведающем ни права, ни справедливости, поскольку оно в них не нуждается. Но если мечта не сбывается, потому что она не может сбыться, безумец кидается в другую крайность, противоположную и окончательную, он отрицает в себе и других все человеческое, такое, как оно есть, и прежде всего высмеивает тех, кто верен реальной скромной человечности, кто не желает разделять его новой веры и совершенства упадка.
Вообрази также заодно со мной, что некто, воюя, верил в совершенную победу, то есть в абсолютный конец всех войн навеки. Но потом увидел, что война продолжается в нем самом, в памяти, в неустойчивом беспокойстве вселенной, увидел, что мир не является самостоятельной ценностью, подчиняющей себе всех без исключения, увидел, что несовершенство проявляется и тут, в наихудшем самоотрицании, ибо нет ничего хуже отказа от мира, где бы ни возник этот отказ. Он увидел, что мир опять стал предметом хитрости и торга, каковые он, безумный максималист, презирает. Вот он и кидается в противоположную крайность и точно так же, как отрицал в душе достоинство права и справедливости, стал отрицать и достоинство мира. Если бы он был властителем, то превратился бы в тирана, в Калигулу, в царя или диктатора, ибо презрение к себе и другим, презрение к абсолютным и поэтому недоступным идеалам вкупе с вытеснившей эти идеалы жаждой власти научили бы его убивать людей, не совершенных в своем человеческом качестве. Власть безумцев отказывает чужой жизни в ценности, легко идет на убийство.
Таким он, возможно, был или мог быть.
А кем же была для него я между двумя этими крайностями мечты и падения? Иза, Иза… Какой мелкой и приземленной представляется мне в таком сравнении моя наивысшая самоотдача. Чем я доказывала ее и доказываю? Повседневными скромными страданиями? Делать сколько можешь, учить детей читать, писать и считать, подготовить то или другое на сегодня и на завтра. Фонфелек для Марьянека. И чтобы стало хоть немножко больше порядка, больше смысла. Но даже такие скромные старания столь ненадежны и так тяжело даются.
Надо, надо, надо… Завтра. Все завтра и завтра, все без полета, у самой земли, совсем невысоко. Не знаю, хорошо ли это, справедливо, разумно?.. Легенда об Антее показалась мне вдруг плоской и малодушной. Мои маленькие дела, маленькие обязанности — до чего же беззаботно я в них погружаюсь, до чего же удобно прятаться за ними в середине толпы, подальше от края пропасти. Но, увы, и здесь, исходя из средней нормы, хватает места и отчаянию, моему маленькому отчаянию.
Читать дальше